Предыдущая статья
Образ Ноевого ворона в средневековых русских источниках
СВЯТОЙ АНТОНИЙ И КЕНТАВР
Полещук Д.В.
Аспирант Русского Музея. Ведущий специалист Комитета по государственному контролю,
охране и использованию памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.
г. Санкт-Петербург.
Аспирант Русского Музея. Ведущий специалист Комитета по государственному контролю,
охране и использованию памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.
г. Санкт-Петербург.
Оригинальность восприятия произведений искусства в средневековую эпоху, в отличие от современности, во многом определялась сферой его бытования и степенью распространения. Так, основными пространствами или медиа средневекового искусства был храм, его убранство в виде монументального и «станкового» искусства, последнее – это иконы, шитье, утварь. Книжная иллюстрация была особым пространством, имея свои специфические условия перцепции. Сравнивая с современной гипервизуальной культурой ситуацию того веками отдаленного от нас времени, нужно помнить, что тогда существовало значительно меньше возможностей наблюдать произведения искусства, как, впрочем, и любые другие изображения. В этом смысле, не будет преувеличением предполагать, что тем самым каждая подобная ситуация носила повышенный семантический уровень восприятия.
Наряду с литургическим, моленным характером, например, росписей церквей, многие из них носили откровенно дидактический и просвещенческий смысл. Наличие огромного числа сюжетных сцен во фресковых ансамблях наглядным образом вводило священную историю в образное мышление средневекового человека. Таким образом, он образно мыслил и представлял священных персонажей по достаточно устойчивым иконографическим приметам, будь то нимб, жест, поза, цвет одежд или характерные черты лица. В более широком аспекте, христианское искусство, как известно, выработало хорошо узнаваемые комбинации повествовательных сцен. Многие изображаемые события – например, такие, где человек средних лет показан фронтально, почти обнажен, в водном потоке реки, с парящим голубем над головой, с рядом стоящим персонажем, по возрасту чуть старше, с острыми чертами лица, с жестом руки над головой первого персонажа – повторялись из образа в образ и неизменно они, благодаря надписям, идентифицировались как «Крещение Господне» или «Богоявление».
На таком фоне появление изображений, связанных не с генеральной линией священной истории, а с историей самого христианства, требовало особых иконографических усилий для возможно более точной идентификации представленных персонажей. Как нетрудно догадаться, максимально ясным такое изображение, как сцена из жития святого, могло восприниматься в составе рукописи, иллюстрирующей жизнь того или иного подвижника. Однако появление в храме сюжетов из жития святого могло затруднять узнавание, но при этом еще сильнее активизировать прочтение изображенного как визуально, так и вербально. Последнее несет особый интерес: читались номинативные надписи, сообщающие, что представлено на фреске, читалось, проговариваясь и само изображение, в прямом смысле. Ведь и сейчас, если сюжет на картине не узнаваем сразу, наше мышление начинает будто раскладывать по полкам, по местам увиденное – словом, мы пересказываем (неважно про себя или устно) изображение. В составе храмовой декорации с присутствием не одного, а целого цикла изображений, по крайней мере повествовательная часть сюжетов неизменно должна была восприниматься таким образом.
Наряду с литургическим, моленным характером, например, росписей церквей, многие из них носили откровенно дидактический и просвещенческий смысл. Наличие огромного числа сюжетных сцен во фресковых ансамблях наглядным образом вводило священную историю в образное мышление средневекового человека. Таким образом, он образно мыслил и представлял священных персонажей по достаточно устойчивым иконографическим приметам, будь то нимб, жест, поза, цвет одежд или характерные черты лица. В более широком аспекте, христианское искусство, как известно, выработало хорошо узнаваемые комбинации повествовательных сцен. Многие изображаемые события – например, такие, где человек средних лет показан фронтально, почти обнажен, в водном потоке реки, с парящим голубем над головой, с рядом стоящим персонажем, по возрасту чуть старше, с острыми чертами лица, с жестом руки над головой первого персонажа – повторялись из образа в образ и неизменно они, благодаря надписям, идентифицировались как «Крещение Господне» или «Богоявление».
На таком фоне появление изображений, связанных не с генеральной линией священной истории, а с историей самого христианства, требовало особых иконографических усилий для возможно более точной идентификации представленных персонажей. Как нетрудно догадаться, максимально ясным такое изображение, как сцена из жития святого, могло восприниматься в составе рукописи, иллюстрирующей жизнь того или иного подвижника. Однако появление в храме сюжетов из жития святого могло затруднять узнавание, но при этом еще сильнее активизировать прочтение изображенного как визуально, так и вербально. Последнее несет особый интерес: читались номинативные надписи, сообщающие, что представлено на фреске, читалось, проговариваясь и само изображение, в прямом смысле. Ведь и сейчас, если сюжет на картине не узнаваем сразу, наше мышление начинает будто раскладывать по полкам, по местам увиденное – словом, мы пересказываем (неважно про себя или устно) изображение. В составе храмовой декорации с присутствием не одного, а целого цикла изображений, по крайней мере повествовательная часть сюжетов неизменно должна была восприниматься таким образом.
В подобном контексте роспись Спасо-Преображенской церкви Евфросиньева монастыря в Полоцке, созданная около 1161 г., представляет исключительный интерес. Фресковый ансамбль храма является самым древним в искусстве средневековой Руси с точки зрения сочетания основного догматического или литургического цикла росписи с уникальным и редко встречающимся составом сюжетов, выбранных по индивидуальной программе ктитора храма инокини Евфросинии, происходящей из полоцкой княжеской семьи [1] .
Здесь необходимо напомнить, что основные поверхности стен храма и сводов основного подкупольного пространства и помещений алтаря имеют более или менее устойчивую схему сюжетов росписи, сложившуюся в постиконоборческий период. В куполе обычно изображается Христос Пантократор, однако для ряда русских храмов XII в. в том числе и полоцкой церкви в этом месте было свойственно помещать композицию «Вознесение».
Здесь необходимо напомнить, что основные поверхности стен храма и сводов основного подкупольного пространства и помещений алтаря имеют более или менее устойчивую схему сюжетов росписи, сложившуюся в постиконоборческий период. В куполе обычно изображается Христос Пантократор, однако для ряда русских храмов XII в. в том числе и полоцкой церкви в этом месте было свойственно помещать композицию «Вознесение».
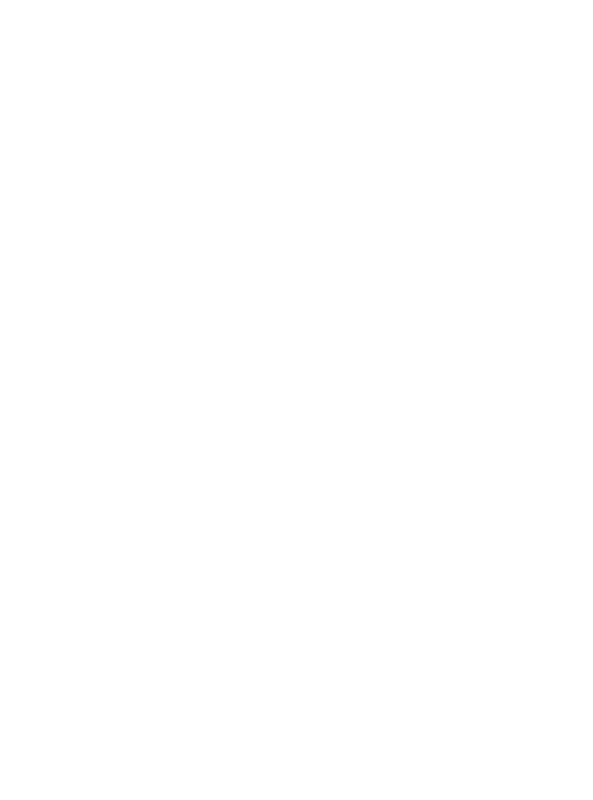
Спасская церковь Евфросиньева монастыря. 1161 г. Изображение святых-монахов на столпах и стенах Спасской церкви.
В барабане купола представлены пророки, в парусах – евангелисты; на предалтарных столбах – «Благовещение». Декорация апсиды, то есть уже алтарного пространства, могла варьироваться, но ведущие композиции домонгольского искусства, берущие начало столетием ранее в Софии Киевской, характерны и здесь – Богоматерь Оранта в конхе, а регистром ниже – «Евхаристия» или Причащение апостолов. На стенах рукавов подкупольного креста в полоцком храме на северной и южной стороне по принципу символического соответствия представлены – «Распятие» и «Воскресение-Сошествие во ад», в среднем регистре – «Вход Господень в Иерусалим» и «Воскрешение Лазаря», нижний уровень занимают сцены «Успение Богоматери» и «Рождество Христово». Фресковая декорация полоцкой церкви следовала принципам закрепленного традицией местоположения росписей в наиболее важных, просматриваемых, семантически ответственных, символически отмеченных пространствах основного объема храма.
Но роспись храмов могла, помимо основного набора композиций, иметь и такой, который ранее не встречался или появлялся редко. Кроме того, росписи монастырских храмов по своей функции могли содержать малораспространенные сюжеты или вообще иметь дополнительную к основной иконографическую программу. Так, росписи восьмигранных столпов полоцкой церкви несут изображения монахов, преподобных отцов. Вместе с тем, монашеская тема в росписях многих монастырских соборов домонгольского времени стала весьма распространенной [2] . Поэтому, с одной стороны, нет ничего удивительного в нижней зоне стен и в западной части под хорами полоцкого храма видеть редко встречающиеся сюжеты или неповторяющиеся вообще; напротив, с другой стороны, удивляет как раз этот набор сюжетов, их сугубо книжный характер.
Но роспись храмов могла, помимо основного набора композиций, иметь и такой, который ранее не встречался или появлялся редко. Кроме того, росписи монастырских храмов по своей функции могли содержать малораспространенные сюжеты или вообще иметь дополнительную к основной иконографическую программу. Так, росписи восьмигранных столпов полоцкой церкви несут изображения монахов, преподобных отцов. Вместе с тем, монашеская тема в росписях многих монастырских соборов домонгольского времени стала весьма распространенной [2] . Поэтому, с одной стороны, нет ничего удивительного в нижней зоне стен и в западной части под хорами полоцкого храма видеть редко встречающиеся сюжеты или неповторяющиеся вообще; напротив, с другой стороны, удивляет как раз этот набор сюжетов, их сугубо книжный характер.
Здесь перечислим только некоторые композиции, для того, чтобы затем обратиться к одной, наиболее примечательной для русского средневекового искусства. В пространстве алтаря представлены очень редко встречающиеся сюжеты – «Чудо св. Афиногена с отроком»; чудо Дионисия Ареопагита, изображенного несущим свою усеченную голову; «Мучение св. Павла Исповедника», где святой изображен с омофором, которым был задушен. В нижней части на южной и северной стенах в основном пространстве храма, обрамляя акросолии, представлена композиция «Источники Премудрости святых Отцов» в двух вариантах: «Видение Прокла» и сцена видения Григорием Богословом апостола Иоанна. На арочных сводах южного нефа изображены две сцены сюжета о чуде Св. Мартирия, одна из которых повествует о том, как святой, сжалившись над прокаженным, в своем плаще на спине понес его до обители, но затем оказалось, что он нес Христа.
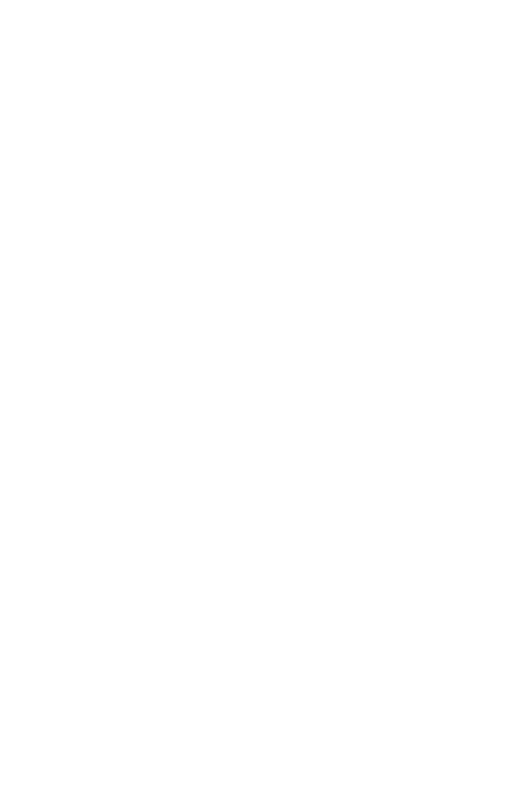
«Чудо св. Афиногена с отроком» - фрагмент росписи алтаря Спасской церкви. Ок. 1161 г.
Под хорами в южном объеме над акросолием помещена сцена с Герасимом Иорданским, исцеляющим льва. Кроме названных, присутствует еще ряд уникальных сюжетов на мартирологическую тему, редких или единичных для искусства Древней Руси [3] .
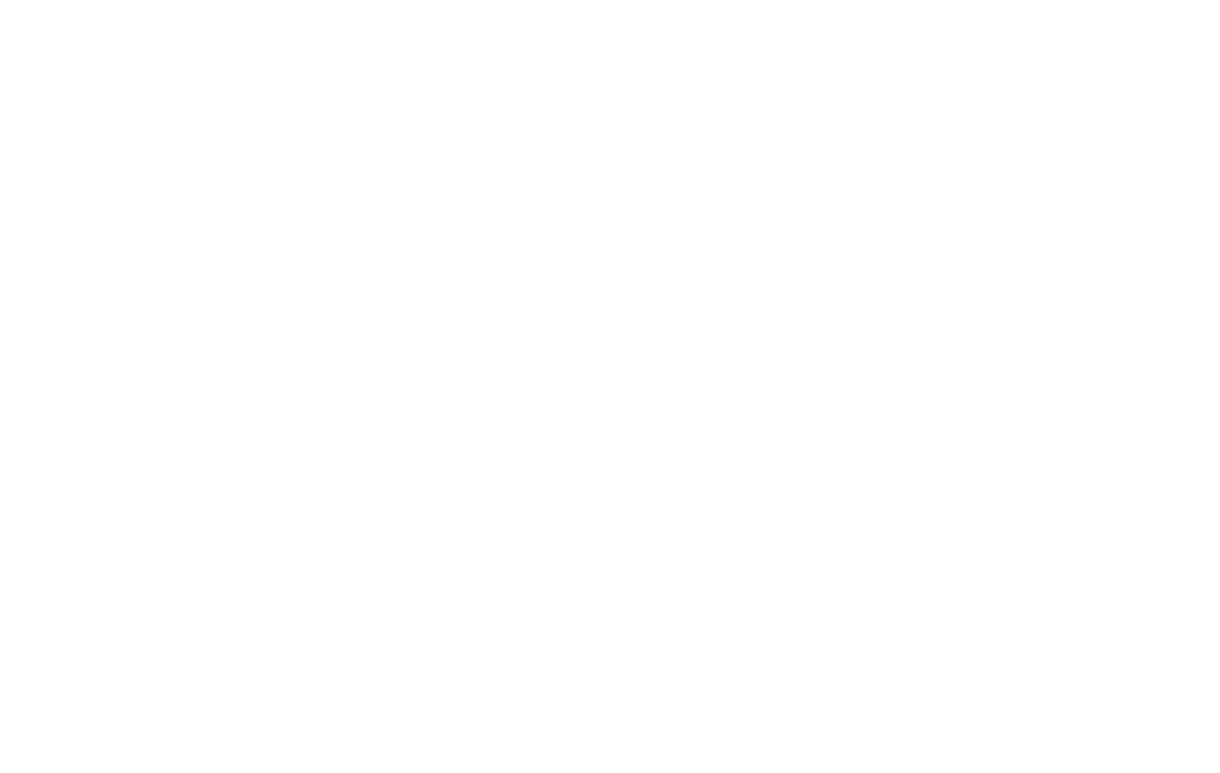
«Герасим Иорданский исцеляет льва» - фреска под хорами в южном объеме Спасской церкви. Ок. 1161 г.
Такое разнообразие в выборе сюжетов для дополнительной программы росписей обычно связывают с сильным греческим влиянием в Полоцке [4] , в котором Евфросиния играла одну из решающих ролей. Проходя послушание, после принятия пострига в монастыре при Софийском соборе, она занимается перепиской книг его библиотеки, которая как раз в первой половине XII в. была пополнена немалым количеством греческих манускриптов. Считается, что именно заслугам образованной княжны-инокини Евфросинии принадлежит основание двух монастырей и в частности женского со строительством каменного храма во имя Всемилостивого Спаса.
Тем самым, выбор редких сюжетов становится более понятным. Наряду с этим, иногда возникает впечатление, что наличие немалого количества впервые на Руси встречающихся изображений, даже при наличии идентифицирующих надписей, носило не просто уникальный характер, а прежде всего личный, будто созданный для одного зрителя – самой Евфросинии, которая по своему интеллектуальному капризу заполняет стены храма такими сюжетами, понимать и читать которые могла только она в силу своей выдающейся образованности. Мне кажется, если не абсолютизировать данное положение, оно во многом могло иметь место быть. Другое дело, что роспись принадлежит монастырскому храму, в котором, как и в любом другом монастыре, книжная премудрость всегда являлась добродетелью, и, следовательно, изображаемые сюжеты могли быть распознанными.
Для нас представляет интерес одно изображение – сцена встречи св. Антония и кентавра. Она входит в небольшой цикл, повествующий о двух раннехристианских отшельниках, основателей монашеского пустынножительства свв. Антонии, прозванным Великим и Павле Фивейском. Кроме указанной сцены, на малых сводах в западной части храма в северном нефе под хорами определяют еще два сюжета – беседа свв. Антония и Павла и Успение Павла. Об истории встречи с кентавром в житии св. Антония, написанном св. Афанасием Александринским в IV в., еще ничего неизвестно. Эпизод этот включен в житие Блаженным Иеронимом, что характерно для латинского богослова и писателя. В X в. Симеон Метафраст, перелагая для своего свода жития святых, оставляет этот явно литературный топос в своем тексте, что также примечательно и неудивительно для византийской литературы, активно пользовавшейся античными образами, которые вполне сохраняли свое содержание, но не редко интерпретировались и имели аллегорическое значение.
Ктиторская композиция на хорах храма. Нач. XIII в.
«Св. Антоний и кентавр». Склон свода в западной части Спасской церкви. Ок. 1161 г.
Сцена с кентавром, которого на своем пути встречает Антоний в поисках другого выдающегося отшельника Павла Фивейского, представляет собой двухфигурную композицию. Антоний изображен в легком трехчетвертном развороте вправо с риторическим жестом руки, обращенной к кентавру, который обернулся к нему с таким же жестом и будто указывает направление пути, что согласуется с житием, в котором воспроизводится типологически древний топос, согласно которому путешествующему герою на его пути встречаются разные чудесные существа, иногда готовые помочь. Так, согласно житию, до встречи с кентавром Антонию повстречался сатир, а после кентавра и львица.
Думается, не следует исключительно категорично интерпретировать встречу христианского святого с героями античного искусства, как столкновение с язычеством и его преодоление, что подразумевает прежде всего отрицание. Здесь скорее вовлечение языческого персонажа в христианский мир. Кентавры и сатиры при этом, особенно в тексте жития – это аллегории, нечто вроде литературного приема. В их образах сохранена античная топика, одновременно, это такие герои, которые несут «эффект реальности». Эти персонажи существуют в гармоничном мире, не расколотом непроходимым водоразделом между прежде существовавшим миром и тем, в который пришел Спаситель, принесший обновление, в том числе для сатиров с кентаврами, которые понимают новые ценности, и легко, как в житии св. Антония, указывают верный путь к другому христианскому подвижнику. Кроме того, по житию кентавр является только лишь помощником, потому что вместе с его «христианизацией» произошло и снижение образа-прототипа, ведь сейчас он уже не дает мудрый совет, а лишь отвечает на вопрос, оказываясь не более чем проводником. При этом, тут важно отказаться от очевидного вульгаризма в духе, что «теперь-то даже сатиры и кентавры славят Господа».
Снижается в тексте христианского жития довольно распространенный образ античной мифологии, в которой наряду с враждебным характером кентавров, присутствуют персонажи, как раз наделенные мудростью. В героических мифах некоторые из кентавров являются воспитателями героев, например, Ясона и Ахилла. Особое место среди кентавров занимают два – Хирон и Фол, воплощающие мудрость и благожелательность. В качестве примера стоит напомнить знаменитую фреску из Геркуланума с изображением Хирона, обучающего играть на лире Ахилла. Интересным представляется иллюминированный лист ранневизантийской рукописи первой половины VI в., так называемый Венский Диоскорид, посвященный лекарственным веществам. Одна из миниатюр изображает группу Хирона, передающего священное знание знаменитым античным врачам. Как известно, одним из учеников этого античного кентавра был легендарный бог-врач Асклепий.
Думается, не следует исключительно категорично интерпретировать встречу христианского святого с героями античного искусства, как столкновение с язычеством и его преодоление, что подразумевает прежде всего отрицание. Здесь скорее вовлечение языческого персонажа в христианский мир. Кентавры и сатиры при этом, особенно в тексте жития – это аллегории, нечто вроде литературного приема. В их образах сохранена античная топика, одновременно, это такие герои, которые несут «эффект реальности». Эти персонажи существуют в гармоничном мире, не расколотом непроходимым водоразделом между прежде существовавшим миром и тем, в который пришел Спаситель, принесший обновление, в том числе для сатиров с кентаврами, которые понимают новые ценности, и легко, как в житии св. Антония, указывают верный путь к другому христианскому подвижнику. Кроме того, по житию кентавр является только лишь помощником, потому что вместе с его «христианизацией» произошло и снижение образа-прототипа, ведь сейчас он уже не дает мудрый совет, а лишь отвечает на вопрос, оказываясь не более чем проводником. При этом, тут важно отказаться от очевидного вульгаризма в духе, что «теперь-то даже сатиры и кентавры славят Господа».
Снижается в тексте христианского жития довольно распространенный образ античной мифологии, в которой наряду с враждебным характером кентавров, присутствуют персонажи, как раз наделенные мудростью. В героических мифах некоторые из кентавров являются воспитателями героев, например, Ясона и Ахилла. Особое место среди кентавров занимают два – Хирон и Фол, воплощающие мудрость и благожелательность. В качестве примера стоит напомнить знаменитую фреску из Геркуланума с изображением Хирона, обучающего играть на лире Ахилла. Интересным представляется иллюминированный лист ранневизантийской рукописи первой половины VI в., так называемый Венский Диоскорид, посвященный лекарственным веществам. Одна из миниатюр изображает группу Хирона, передающего священное знание знаменитым античным врачам. Как известно, одним из учеников этого античного кентавра был легендарный бог-врач Асклепий.
Фреска из Геркуланума. Национальный музей археологии в Неаполе. Италия.
Миниатюра Венского Диоскорида. Австрийская национальная библиотека. Вена.
По крайней мере, такой смысл извлекается из жития, в контексте росписи полоцкого храма и самой фрески заметим следующее.
Одним из важных композиционных аспектов сцены св. Антония и кентавра является мотив движения, иллюстрирующий тему пути. Святой Антоний показан именно в движении. Путь понимается как переходное состояние: это уже не начало, но и не конец. Фигура кентавра дополняет подобное смысловое поле. Ведь кентавр это «половинчатое» существо – он получеловек, полузверь. Таким образом возникает семантика незавершенности, хотя сами персонажи вполне ясны и окончательны в своем существовании, но изображенная форма их бытия показывает движение, путь. Вероятно, такое значение оказывается очень созвучным, духовному настроению как самой заказчицы росписи, так и всем монашествующим, выбравшим иноческий подвиг своим уделом.
Однако, что вполне аллегорическим казалось византийскому читателю и зрителю, наблюдавшего античного персонажа, где была сформирована устойчивая традиция символизма на основе античных образов, то не таким это виделось пусть даже и читающим в монастыре инокиням – о чем, правда, у нас нет никаких свидетельств. Ведь при всем разнообразии имеющейся в монастыре литературы, она скорее могла быть вкладом в эрудицию некоторых читателей, а не интеллектуализма, который вполне возможно, имела только одна заказчица росписи. Тем самым в сюжеты искусства Древней Руси вносился образ кентавра, который мог быть не только не прочитан, но неправильно понят и растиражирован в дальнейшем с совершенно иным содержанием, что, однако, с ним, не произошло. Интересно, что на сегодняшний день в раскрытых и сохранившихся древнерусских монументальных ансамблях подобной сцены не выявлено, что не покажется странным, если учесть, что фреска с кентавром, хоть и украшала полоцкий храм, но всё же оставалась вариантом элитарного византийского искусства; в среде продвинутых ее представителей никакого такие образы не смущали, но ведь и на Руси они существуют, особенно в рассматриваемый период. [5]
Поэтому, очень заманчиво в этой связи говорить об особой монастырской культуре, складывавшейся на Руси, а затем значительно изменившейся к новому ее расцвету в конце XIV – начале XV вв. На это стоит, по-видимому, обратить внимание, так как о книжной монастырской культуре домонгольского времени мы знаем значительно больше, например, хотя бы по Киево-Печерскому патерику, но можем только гадать о росписях церквей знаменитой киевской обители, созданной самими монахами. Ведь существовала традиция «отних» монастырей, основанных правящими князьями или членами их семей. Полоцкий храм отличает только княжеское происхождение и культурные связи Евфросинии, в остальном, если исходить из иконографии сюжетов, это свидетельство вклада монашествующего лица, обладающего высокой книжной культурой. Но в ином ракурсе – образы полоцкой церкви и наш кентавр находят себе место в общем потоке домонгольского искусства, не зависимо от того, где подобные образы обнаруживаются в княжеском или монастырском храме. Достаточно, только сослаться на скульптуру Владимиро-Суздальской земли.
Так, с другой иконографической традицией связаны белокаменные рельефные кентавры в оформлении фасадов Дмитриевского собора во Владимире (1194 г.) и Георгиевского в Юрьеве-Польском (1234 г.). Как и прочие звериные мотивы в пластике этих уникальных памятников русского искусства, они носят эмблематический характер, переданный декоративными способами, симметричной композицией, плоскостным решением. Эти кентавры не изображают сюжет какой-то литературной истории, как кентавр из жития св. Антония – они скорее аллегории, источник которых, безусловно, имел книжное происхождение. [6]
Одним из важных композиционных аспектов сцены св. Антония и кентавра является мотив движения, иллюстрирующий тему пути. Святой Антоний показан именно в движении. Путь понимается как переходное состояние: это уже не начало, но и не конец. Фигура кентавра дополняет подобное смысловое поле. Ведь кентавр это «половинчатое» существо – он получеловек, полузверь. Таким образом возникает семантика незавершенности, хотя сами персонажи вполне ясны и окончательны в своем существовании, но изображенная форма их бытия показывает движение, путь. Вероятно, такое значение оказывается очень созвучным, духовному настроению как самой заказчицы росписи, так и всем монашествующим, выбравшим иноческий подвиг своим уделом.
Однако, что вполне аллегорическим казалось византийскому читателю и зрителю, наблюдавшего античного персонажа, где была сформирована устойчивая традиция символизма на основе античных образов, то не таким это виделось пусть даже и читающим в монастыре инокиням – о чем, правда, у нас нет никаких свидетельств. Ведь при всем разнообразии имеющейся в монастыре литературы, она скорее могла быть вкладом в эрудицию некоторых читателей, а не интеллектуализма, который вполне возможно, имела только одна заказчица росписи. Тем самым в сюжеты искусства Древней Руси вносился образ кентавра, который мог быть не только не прочитан, но неправильно понят и растиражирован в дальнейшем с совершенно иным содержанием, что, однако, с ним, не произошло. Интересно, что на сегодняшний день в раскрытых и сохранившихся древнерусских монументальных ансамблях подобной сцены не выявлено, что не покажется странным, если учесть, что фреска с кентавром, хоть и украшала полоцкий храм, но всё же оставалась вариантом элитарного византийского искусства; в среде продвинутых ее представителей никакого такие образы не смущали, но ведь и на Руси они существуют, особенно в рассматриваемый период. [5]
Поэтому, очень заманчиво в этой связи говорить об особой монастырской культуре, складывавшейся на Руси, а затем значительно изменившейся к новому ее расцвету в конце XIV – начале XV вв. На это стоит, по-видимому, обратить внимание, так как о книжной монастырской культуре домонгольского времени мы знаем значительно больше, например, хотя бы по Киево-Печерскому патерику, но можем только гадать о росписях церквей знаменитой киевской обители, созданной самими монахами. Ведь существовала традиция «отних» монастырей, основанных правящими князьями или членами их семей. Полоцкий храм отличает только княжеское происхождение и культурные связи Евфросинии, в остальном, если исходить из иконографии сюжетов, это свидетельство вклада монашествующего лица, обладающего высокой книжной культурой. Но в ином ракурсе – образы полоцкой церкви и наш кентавр находят себе место в общем потоке домонгольского искусства, не зависимо от того, где подобные образы обнаруживаются в княжеском или монастырском храме. Достаточно, только сослаться на скульптуру Владимиро-Суздальской земли.
Так, с другой иконографической традицией связаны белокаменные рельефные кентавры в оформлении фасадов Дмитриевского собора во Владимире (1194 г.) и Георгиевского в Юрьеве-Польском (1234 г.). Как и прочие звериные мотивы в пластике этих уникальных памятников русского искусства, они носят эмблематический характер, переданный декоративными способами, симметричной композицией, плоскостным решением. Эти кентавры не изображают сюжет какой-то литературной истории, как кентавр из жития св. Антония – они скорее аллегории, источник которых, безусловно, имел книжное происхождение. [6]
Рельефы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском (1234 г.)
В связи с упоминанием владимиро-суздальских рельефов нельзя не указать на еще один пример «хождения» образа кентавра с пока еще мало понятной символикой, появившемся на изразцовом рельефе из оформления барабана купола псковской церкви св. Георгия со Взвоза (1494 г.). Здесь изображен кентавр с клинообразной бородой с шипованным кистенем в руке. У его хвоста две птицы, как будто терзающие кентавра своими клювами. Впереди - ставший на задние лапы и выставивший передние зверь. По сторонам от кентавра – две бородатых фигурки, кажущиеся, на современный взгляд, фантастическими, но явно антропоморфные существа. Нижняя часть представляет небольшой фриз из птиц и зверей, вписанных в окружность медальонов.
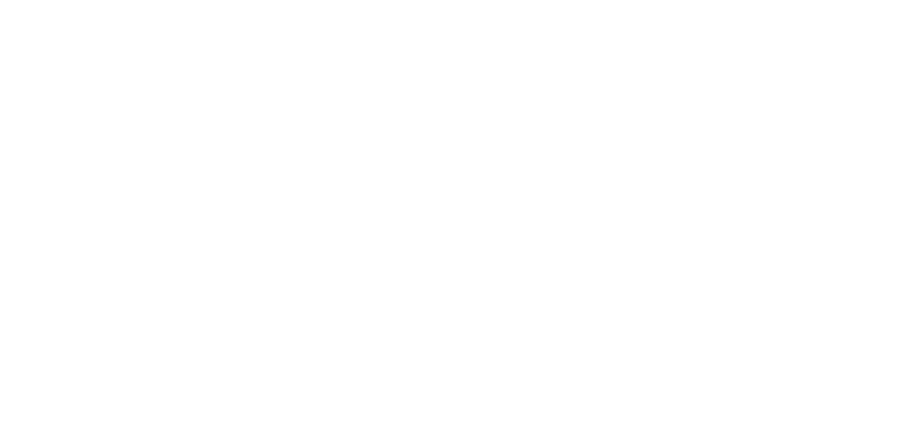
Рисунок с изразцового фриза церкви св. Георгия со Взвоза во Пскове (1494 г.)
В русской книжности и изобразительном искусстве не ранее первой половины XIV в. распространяется образ китовраса (от греч. κένταυρος — «кентавр»), получивший широкую популярность, связанный с легендой о Соломоне, в одном из вариантов которой он выступает как брат и сподвижник легендарного царя. Поэтому знаменитый крылатый китоврас, держащий Соломона в руках на одном из клейм Васильевских врат 1336 г. из Александровой слободы – это не тот кентавр, что в полоцкой фреске.
Возвращаясь к изображению кентавра на полоцкой фреске, не стоит полагать, что для зрителя XII в. в этом образе могло видеться что-либо демоническое. Для домонгольской древнерусской культуры очень характерно активное восприятие многих иконографических и орнаментальных мотивов в русле миграции художественных форм «звериного» стиля – например, тератологических композиций, элемента плетенки, которые были, пусть и со своими локальными особенностями, но «бродячими» мотивами искусства.
Возвращаясь к изображению кентавра на полоцкой фреске, не стоит полагать, что для зрителя XII в. в этом образе могло видеться что-либо демоническое. Для домонгольской древнерусской культуры очень характерно активное восприятие многих иконографических и орнаментальных мотивов в русле миграции художественных форм «звериного» стиля – например, тератологических композиций, элемента плетенки, которые были, пусть и со своими локальными особенностями, но «бродячими» мотивами искусства.
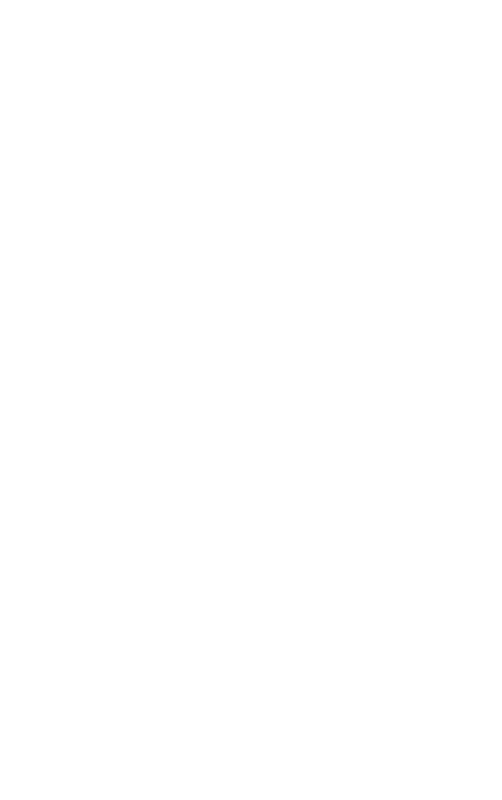
Клеймо Васильевских врат 1336 г. из Александровой слободы.
Поэтому заслуживают внимание примеры из ювелирного искусства с образами фантастических птиц или знаменитые змеевики и тому подобное, которые позволяют понять, что визуальная культура человека этого времени была наполнена различными образами в тех видах искусства, которые были менее зависимы от традиционных канонов. Иными словами, к моменту росписи собора в Полоцке многим современникам образ кентавра мог восприниматься из «класса» дивных зверей, но не более чем сирины в нимбах или грифоны на ювелирных украшениях, бывших не менее на виду, нежели росписи храма. При этом не важно, что многие из них носят генетическую связь с язычеством, как например, знаменитый браслет из Тверского клада, хранящийся ныне в Русском музее. Хотя нам и кажется исследовательской фантастикой называть изображенное на створках браслета русальными сценами, нас интересует образ, похожий на кентавра. Что он означал в контексте всей иконографии браслета – трудно сказать; важно помнить, что такой изобразительный мотив присутствовал вместе с другими странными существами. Следовательно, предположим, что малообоснованным будет считать образ кентавра каким-то из ряда вон выходящим событием при появлении его на фреске церкви монастыря, если принять во внимание, что заказчицей была Евфросиния, чей визуальный опыт, как и книжный, скорее всего, был достаточно большим; также как сомнительно видеть в нем нечто демоническое.

Браслет из Тверского клада. Вторая половина XII в. Государственный Русский Музей. Санкт-Петербург.
Думаю, что уникальный случай появления кентавра в иконографии росписи полоцкой церкви кроется в особенностях, во-первых, домонгольской культуры, активно пользовавшейся образами и сюжетами византийского искусства. Во-вторых, искусство постдомонгольского времени могли мало интересовать образы подобные эпизоду жития св. Антония. При этом рецепция византийского искусства продолжалась, но они больше не появляются в монументальном искусстве. Безусловно, мы имеем большие утраты фресковых циклов, что не позволяет абсолютизировать последнее положение. Однако только в XVII в. появляются сюжеты, ранее не встречающиеся, как в росписях ярославских церквей. И тут дело не только в иконографических новых образцах, в силу своей непривычности, привлекавших внимание русских мастеров. Как представляется, дело в большей открытости и проницаемости культуры этого времени разным художественным формам, несмотря на их неправославное происхождение. Типологически подобной была и домонгольская эпоха, открытая многим ветрам.
Напротив, культуре XIV-XV вв. требовались определенные усилия для возрождения после татарского нашествия, выразившиеся в развитии собственных традиций в искусстве. Византия и Балканские страны по-прежнему остаются источниками многих художественных форм этого времени, но выбор из них ведется уже на совершенно иных основаниях нежели в XI-XII вв. Так, на Руси создаются новые иконографические варианты, например, «Троица» Андрея Рублева. Именно здесь, хотя и благодаря
греческому мастеру, появляется композиция «Спас в силах» в составе деисусного чина иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля, что является важной иконографической новацией, отражающей общую духовную атмосферу рубежа XIV-XV вв. В XVI в. создаются иконы со сказанием чудес от икон Богоматери. Перечисленное – это только наиболее главные русские иконографические отличия от Византии и Балкан, поэтому можно говорить об особой работе с ведущими образами эпохи, ведь образ кентавра, в этом смысле, находился на периферии художественных интересов.
Вместе с тем, мы не хотим сказать, что в это время не появляются редкие сюжеты или изобразительные нарративы, подобные полоцкому циклу. Они есть, и это, например, сюжет об Анте скоморохе из Успенской церкви в с. Мелетово под Псковом (1465 г.). Но это такая редкость, которая не меняет общей тенденции, характеризующейся развитием национальных иконографических поисков.
Интересно, что в XV- XVII вв. кентавры не раз встречаются в книжной миниатюре, поскольку её иконография и в Европе, и на Руси была значительно либеральней, нежели «большого» искусства фрески или иконы. Это не касалось важных богослужебных книг, но различные сборники, как переводные Физиологи, Хронографы и даже Лицевой летописный свод такие образы имели. Их тексты были не только шире и разнообразней по содержанию, например, «Александрия», чем это требовалось для оформления церквей – здесь сами темы находились не исключительно в евангельской истории и не регулировались задачами репрезентации богословских идей как в «Спасе в силах» из Благовещенского собора Кремля.
Напротив, культуре XIV-XV вв. требовались определенные усилия для возрождения после татарского нашествия, выразившиеся в развитии собственных традиций в искусстве. Византия и Балканские страны по-прежнему остаются источниками многих художественных форм этого времени, но выбор из них ведется уже на совершенно иных основаниях нежели в XI-XII вв. Так, на Руси создаются новые иконографические варианты, например, «Троица» Андрея Рублева. Именно здесь, хотя и благодаря
греческому мастеру, появляется композиция «Спас в силах» в составе деисусного чина иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля, что является важной иконографической новацией, отражающей общую духовную атмосферу рубежа XIV-XV вв. В XVI в. создаются иконы со сказанием чудес от икон Богоматери. Перечисленное – это только наиболее главные русские иконографические отличия от Византии и Балкан, поэтому можно говорить об особой работе с ведущими образами эпохи, ведь образ кентавра, в этом смысле, находился на периферии художественных интересов.
Вместе с тем, мы не хотим сказать, что в это время не появляются редкие сюжеты или изобразительные нарративы, подобные полоцкому циклу. Они есть, и это, например, сюжет об Анте скоморохе из Успенской церкви в с. Мелетово под Псковом (1465 г.). Но это такая редкость, которая не меняет общей тенденции, характеризующейся развитием национальных иконографических поисков.
Интересно, что в XV- XVII вв. кентавры не раз встречаются в книжной миниатюре, поскольку её иконография и в Европе, и на Руси была значительно либеральней, нежели «большого» искусства фрески или иконы. Это не касалось важных богослужебных книг, но различные сборники, как переводные Физиологи, Хронографы и даже Лицевой летописный свод такие образы имели. Их тексты были не только шире и разнообразней по содержанию, например, «Александрия», чем это требовалось для оформления церквей – здесь сами темы находились не исключительно в евангельской истории и не регулировались задачами репрезентации богословских идей как в «Спасе в силах» из Благовещенского собора Кремля.
В заключение вспомним знаменитую греческую бронзовую группу VIII в. до н.э. из Метрополитен музея, где представлены человек и кентавр, основной смысл которой раскрывается во встрече мира людей с миром природы и их общем бытии. Встретив на своем пути кентавра, св. Антоний не бежит прочь, а просит помощи и получает верное указание пути к живой святости на земле, которую также искала и стяжала спустя много веков изобразившая эту сцену на стенах своего храма преподобная Евфросиния Полоцкая.
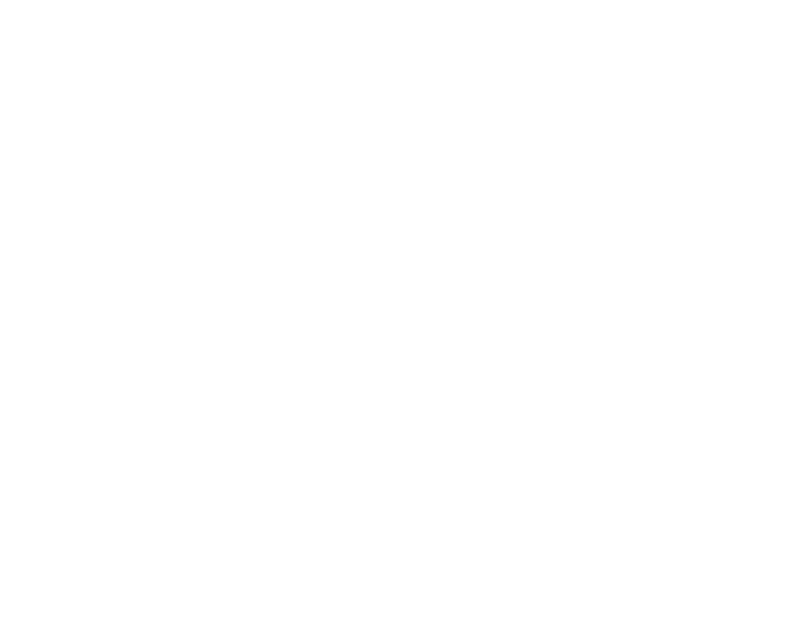
Бронзовая статуэтка. VIII в. до н.э. из Метрополитен музея. Нью-Йорк.
[1] Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенская церковь Евфросиньева монастыря и ее фрески. — М.: Северный паломник, 2009. О знаменитой ктиторской фреске с изображением Евфросиньи, подносящей Спасскую церковь см. Преображенский А.С. Ктиторские портреты средневековой Руси XI – начала XVI вв. М., 2010.
[2] Сарабьянов В.Д. Образ монашества в древнерусском искусстве XI – середины XII в. // ДРИ. Идея и образ. Опыты изучения византийского и древнерусского искусства. Материалы Международной научной конференции 1-2 ноября 2005 года. М., 2009. С. 161-194. Обратим внимание, что здесь исследователь называет сцену с кентавром «Искушением св. Антония», в дальнейших его публикациях этой ошибки уже нет.
[3] Более полный обзор и возможные интерпретации редких сюжетов в полоцкой церкви можно получить в работе Сарабьянов В. Д. Мир книжности во фресках Спасской церкви Евфросиньева монастыря и иконографический замысел преп. Евфросинии Полоцкой // Искусство христианского мира. Сб. статей. Вып. 12. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. — С. 135–163.
[4] Шалина И.А. Богоматерь Эфесская - Полоцкая - Корсунская - Торопецкая: Ист. имена и архетип чудотворной иконы // Чудотворная икона в Византии и Др. Руси. М., 1996. С. 200-251.
[5] Хороший обзор древнерусских изображений кентавра в различных видах искусства, и не только на домонгольский период, дан в статье - Чернецов А.В. Древнерусские изображения кентавра // Советская археология (СА), 1975, 2. С. 100-120.
[6] Обратим здесь внимание на старую работу В.П. Даркевича, в которой он интерпретирует рельефы Дмитриевского собора как изображение эпизодов подвигов Геракла: Даркевич В.П. Подвиги Геракла в декорации Дмитриевского собора во Владимире // // Советская археология (СА), 1962, 4. С. 90-105. Наряду с этим, и в свое время, и сейчас вызывает огромное сомнение идея Г.К. Вагнера, пытавшегося связать кентавров Георгиевского собора с образом Китовраса. См. Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. М., 1969
[2] Сарабьянов В.Д. Образ монашества в древнерусском искусстве XI – середины XII в. // ДРИ. Идея и образ. Опыты изучения византийского и древнерусского искусства. Материалы Международной научной конференции 1-2 ноября 2005 года. М., 2009. С. 161-194. Обратим внимание, что здесь исследователь называет сцену с кентавром «Искушением св. Антония», в дальнейших его публикациях этой ошибки уже нет.
[3] Более полный обзор и возможные интерпретации редких сюжетов в полоцкой церкви можно получить в работе Сарабьянов В. Д. Мир книжности во фресках Спасской церкви Евфросиньева монастыря и иконографический замысел преп. Евфросинии Полоцкой // Искусство христианского мира. Сб. статей. Вып. 12. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. — С. 135–163.
[4] Шалина И.А. Богоматерь Эфесская - Полоцкая - Корсунская - Торопецкая: Ист. имена и архетип чудотворной иконы // Чудотворная икона в Византии и Др. Руси. М., 1996. С. 200-251.
[5] Хороший обзор древнерусских изображений кентавра в различных видах искусства, и не только на домонгольский период, дан в статье - Чернецов А.В. Древнерусские изображения кентавра // Советская археология (СА), 1975, 2. С. 100-120.
[6] Обратим здесь внимание на старую работу В.П. Даркевича, в которой он интерпретирует рельефы Дмитриевского собора как изображение эпизодов подвигов Геракла: Даркевич В.П. Подвиги Геракла в декорации Дмитриевского собора во Владимире // // Советская археология (СА), 1962, 4. С. 90-105. Наряду с этим, и в свое время, и сейчас вызывает огромное сомнение идея Г.К. Вагнера, пытавшегося связать кентавров Георгиевского собора с образом Китовраса. См. Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. М., 1969
Предыдущая статья
Образ Ноевого ворона в средневековых русских источниках
