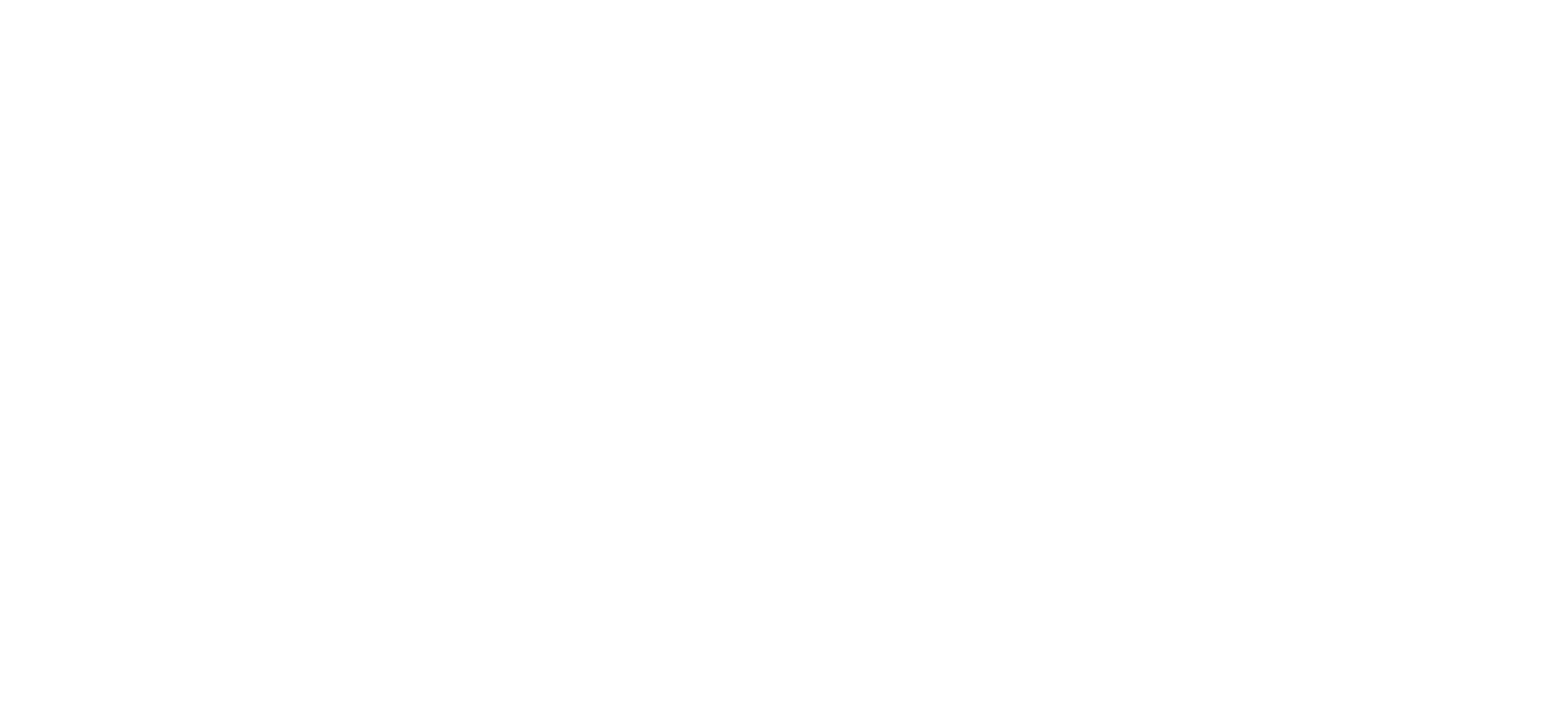
Миниатюра из Hortus deliciarum, 1175, кукольный театр
Хотя современная индустрия зрелищ предлагает нам бесконечный набор таких развлечений, которые смертельно напугали бы человека пару веков назад, движущиеся механические фигурки, радовавшие наших предков, сохраняют свое очарование. Многим взрослым свойственна любовь к игрушечным поездам и часам с кукушкой; многие дети обожают начало диснеевского «Пиноккио» (1940) в декорациях фантастических деревянных механизмов и томительно ждут появления кукол в окошках на фасаде театра Образцова; до сих пор в Петербурге собираются удивительные толпы посетителей, желающих видеть «Гранд Макет Россия». Механические человечки пляшут из века в век, и все-таки что-то в нашем восприятии меняется.
В XVII веке для царя Алексея Михайловича был сооружён грандиозный дворец в Коломенском. Как и многие роскошные постройки того времени, он символически воссоздавал легендарный памятник культуры: в данном случае дворец царя Соломона. Воображение современников поражали расписные потолки, богатая обстановка, вычурность и красочность зданий, а особый эффект производили шевелящиеся львы-привратники. Они раскрывали рты, двигали глазами и рычали — был разработан сложный механизм для приведения их в действие, имитация рыка происходила в «органной палате», она автоматически активировалась часами. В 1671 г. Симеон Полоцкий описал дворец стихами, указав, что статуй животных там было много, а подвижные львы — совершенно как живые: хотя они сидят на месте, но кажется, что вот-вот пойдут. Сочетание восторга и страха очень характерно для созерцателей подобных диковинок, как замечал историк И. Е. Забелин, они «иногда видели даже более, чем было на самом деле».
В XVIII в. чудесные львы сломались, а потом и весь дворец был разобран по ветхости. В 2010 году его воспроизвели в натуральную величину по чертежам и другим историческим источникам, в обычное время он открыт для посетителей. И хотя современный вариант несомненно похож на постройку XVII века больше, чем она на дворец царя Соломона, всё-таки перед нами реконструкция. По обеим сторонам царского трона возлежат совершенно новые львы золотого цвета со сверкающими зелёными глазами. Сверкание, небольшой поворот головы и рыканье в нужный момент незаметно активирует дежурная в зале (11:11). Однако отзывы, оставленные свидетелями этого действа, носят скорее ироничный характер: записанный рык сравнивается со звуком водопроводной трубы.
В XVII веке для царя Алексея Михайловича был сооружён грандиозный дворец в Коломенском. Как и многие роскошные постройки того времени, он символически воссоздавал легендарный памятник культуры: в данном случае дворец царя Соломона. Воображение современников поражали расписные потолки, богатая обстановка, вычурность и красочность зданий, а особый эффект производили шевелящиеся львы-привратники. Они раскрывали рты, двигали глазами и рычали — был разработан сложный механизм для приведения их в действие, имитация рыка происходила в «органной палате», она автоматически активировалась часами. В 1671 г. Симеон Полоцкий описал дворец стихами, указав, что статуй животных там было много, а подвижные львы — совершенно как живые: хотя они сидят на месте, но кажется, что вот-вот пойдут. Сочетание восторга и страха очень характерно для созерцателей подобных диковинок, как замечал историк И. Е. Забелин, они «иногда видели даже более, чем было на самом деле».
В XVIII в. чудесные львы сломались, а потом и весь дворец был разобран по ветхости. В 2010 году его воспроизвели в натуральную величину по чертежам и другим историческим источникам, в обычное время он открыт для посетителей. И хотя современный вариант несомненно похож на постройку XVII века больше, чем она на дворец царя Соломона, всё-таки перед нами реконструкция. По обеим сторонам царского трона возлежат совершенно новые львы золотого цвета со сверкающими зелёными глазами. Сверкание, небольшой поворот головы и рыканье в нужный момент незаметно активирует дежурная в зале (11:11). Однако отзывы, оставленные свидетелями этого действа, носят скорее ироничный характер: записанный рык сравнивается со звуком водопроводной трубы.
В рукописи XVII в. есть извлечение из «Космографии» — описание ещё одного хитрого механизма, на сей раз заграничного. Поскольку это не очень известный текст, приведём его полностью:
В Датском королевстве есть в городе Лоньде часы неудоб(ь) сказаемы, предивноустроены.
Приделаны к костелной стене, у тех часов устроена доска медная: розноцветными красками выписана на ней многие розныя притчи в лицах: во весь год лунное течение, святцы, неделные числа, месяцем нарождение и ущербление, и все планиты назнаменованы с указы в лицах; пред тою указною часовною доскою на столбах учинен мост четвероуголен широк 4 сажен, по странам моста того устроены перила, а внутри часов тех неудоб(ь) сказаемо предивно устроена: со обеих сторон часовной указной доски двери створные, всегда пред боем часовным выежжают два мужа конных збройных [полонизм: вооружённый] и оруженых, един из дверей, а другой из других, и един против другаго храбрость показывают, шпагами шурмуют, секутся, аки живые, и паки выезжают внутрь; потом правыми дверми выходит красная девица, нося на руках своих младенца, и сядет на престоле преукрашенном, уготованном ей, и после с левой страны выезжают три цари персидстии и той девице со младенцем покланяются и дары приносят с великим страхом и трепетом, аки живы, и паки иными дверми внутрь входят, потом и девица óна со младенцем входит внутрь часов, и двери затворяются, и бывает шум и троскот, и абие начинают часы бити — переда всяким часов такое девество [видимо, ошибка в выносной букве: имеется в виду действо 'всякий час', а не 'перед всяким посетителем'].
В Датском королевстве есть в городе Лоньде часы неудоб(ь) сказаемы, предивноустроены.
Приделаны к костелной стене, у тех часов устроена доска медная: розноцветными красками выписана на ней многие розныя притчи в лицах: во весь год лунное течение, святцы, неделные числа, месяцем нарождение и ущербление, и все планиты назнаменованы с указы в лицах; пред тою указною часовною доскою на столбах учинен мост четвероуголен широк 4 сажен, по странам моста того устроены перила, а внутри часов тех неудоб(ь) сказаемо предивно устроена: со обеих сторон часовной указной доски двери створные, всегда пред боем часовным выежжают два мужа конных збройных [полонизм: вооружённый] и оруженых, един из дверей, а другой из других, и един против другаго храбрость показывают, шпагами шурмуют, секутся, аки живые, и паки выезжают внутрь; потом правыми дверми выходит красная девица, нося на руках своих младенца, и сядет на престоле преукрашенном, уготованном ей, и после с левой страны выезжают три цари персидстии и той девице со младенцем покланяются и дары приносят с великим страхом и трепетом, аки живы, и паки иными дверми внутрь входят, потом и девица óна со младенцем входит внутрь часов, и двери затворяются, и бывает шум и троскот, и абие начинают часы бити — переда всяким часов такое девество [видимо, ошибка в выносной букве: имеется в виду действо 'всякий час', а не 'перед всяким посетителем'].
Речь идёт об астрономических часах в городе Лунде (Швеция), которые сохранились до сих пор. Они называются Horologium mirabile Lundense, располагаются в кафедральном соборе и были сконструированы в XV веке, хотя с тех пор немного изменились. Автор вполне достоверно описал и конных рыцарей верхнего яруса (количество ударов мечами соответствует отбиваемому времени), и деревянных волхвов, делающих поклон перед Мадонной с младенцем.
О различиях между описанием и реальностью можно судить по видеозаписям:
О различиях между описанием и реальностью можно судить по видеозаписям:
Описатели механических львов и волхвов сходятся в нескольких утверждениях.
Симеон Полоцкий говорит, что к механическим хищникам страшно подойти, поскольку они «тако устроенны, // аки живые львы суть посажденны». Все фигурки на часах для автора текста тоже «аки живы», и их действия описаны с преувеличенным жизнеподобием: рыцари демонстрируют свою отвагу, а волхвы не просто выезжают с дарами в руках, но подносят их почтительно, «с великим страхом и трепетом», как и подобает вести себя перед величайшей святыней. Видимо, «страх и трепет» внешне выражаются для автора в способности деревянных волхвов сгибаться в поясе, в отличие от слуг, которые даже не упоминаются.
Ещё один общий ракурс при истолковании происходящего касается диковинки в целом, а не одного только механизма. Исчисляя дворцовые росписи с зодиакальным кругом, аллегориями времён года, Симеон Полоцкий говорит о них как о поучительных сюжетах: «Написания егда возглядаю, // много историй чюдных познаваю». Созерцатель чудесных часов говорит о «притчах в лицах», имея в виду не только изображения святых, старца с указкой, но и тот же зодиакальный круг, символы евангелистов. Умение видеть аллегорию даже в неподвижном, но узнаваемом образе — черта средневекового мышления, которая проявлялась и в XVIII столетии. Весь тварный мир мыслился как иносказание, язык Бога, который понятен книжному человеку. А создание аллегорических картин и движущихся механизмов — опыт говорения на этом языке притч.
В средневековых сочинениях подтекст постоянно выводится на первый план, и внутреннее содержание наблюдаемого затмевает внешнее. Во многих сборниках XVII века воспроизведено рассуждение о «позоре» (зрелище): он бывает удивительный и не слишком достойный удивления. Неудивительное зрелище — борцы в цирке: один одолевает другого, что же тут выдающегося. «Егда же видимый человек боряся с невидимым врагом дьяволом и одолевает ему, не покорся ему, похоти его, се есть со удивлением зримое». Несмотря на назидательность этого отрывка (далее в нём сказано о доблести мучеников, претерпевающих пытки — «позор убо быхом ангелом и человеком»), заданная вначале оппозиция зримого и «незримого зрелища» очень показательна.
Пожалуй, ощущение чуда оживления механических фигурок во взрослом возрасте мы утратили, хотя нас всё ещё способны напугать и удивить подвижные картинки на киноэкране. Уже в начале XIX в. Гофман описал ребёнка, который не доволен тем, что искусно сделанные человечки не могут изменить свой маршрут, а только повторяют одну и ту же программу действий, и уже осознанное, рациональное наслаждение сложным механизмом предоставляется обществу взрослых. Зато повествовательность, притчевость старинных машин для нас сохраняется. Истории становятся более личными, для многих любование механическими фигурками связано с чувством ностальгии, мечтами. Также популярное в современной культуре соотнесение себя с каким-нибудь животным (хранение статуэток, кулонов с его приятным, но нереалистичным изображением) обычно напрямую не связано с симпатией к этому существу в природе, его настоящими признаками. Это символ, притча, история — не такая поучительная, как в Средние века, но не менее содержательная для частного человека.
Симеон Полоцкий говорит, что к механическим хищникам страшно подойти, поскольку они «тако устроенны, // аки живые львы суть посажденны». Все фигурки на часах для автора текста тоже «аки живы», и их действия описаны с преувеличенным жизнеподобием: рыцари демонстрируют свою отвагу, а волхвы не просто выезжают с дарами в руках, но подносят их почтительно, «с великим страхом и трепетом», как и подобает вести себя перед величайшей святыней. Видимо, «страх и трепет» внешне выражаются для автора в способности деревянных волхвов сгибаться в поясе, в отличие от слуг, которые даже не упоминаются.
Ещё один общий ракурс при истолковании происходящего касается диковинки в целом, а не одного только механизма. Исчисляя дворцовые росписи с зодиакальным кругом, аллегориями времён года, Симеон Полоцкий говорит о них как о поучительных сюжетах: «Написания егда возглядаю, // много историй чюдных познаваю». Созерцатель чудесных часов говорит о «притчах в лицах», имея в виду не только изображения святых, старца с указкой, но и тот же зодиакальный круг, символы евангелистов. Умение видеть аллегорию даже в неподвижном, но узнаваемом образе — черта средневекового мышления, которая проявлялась и в XVIII столетии. Весь тварный мир мыслился как иносказание, язык Бога, который понятен книжному человеку. А создание аллегорических картин и движущихся механизмов — опыт говорения на этом языке притч.
В средневековых сочинениях подтекст постоянно выводится на первый план, и внутреннее содержание наблюдаемого затмевает внешнее. Во многих сборниках XVII века воспроизведено рассуждение о «позоре» (зрелище): он бывает удивительный и не слишком достойный удивления. Неудивительное зрелище — борцы в цирке: один одолевает другого, что же тут выдающегося. «Егда же видимый человек боряся с невидимым врагом дьяволом и одолевает ему, не покорся ему, похоти его, се есть со удивлением зримое». Несмотря на назидательность этого отрывка (далее в нём сказано о доблести мучеников, претерпевающих пытки — «позор убо быхом ангелом и человеком»), заданная вначале оппозиция зримого и «незримого зрелища» очень показательна.
Пожалуй, ощущение чуда оживления механических фигурок во взрослом возрасте мы утратили, хотя нас всё ещё способны напугать и удивить подвижные картинки на киноэкране. Уже в начале XIX в. Гофман описал ребёнка, который не доволен тем, что искусно сделанные человечки не могут изменить свой маршрут, а только повторяют одну и ту же программу действий, и уже осознанное, рациональное наслаждение сложным механизмом предоставляется обществу взрослых. Зато повествовательность, притчевость старинных машин для нас сохраняется. Истории становятся более личными, для многих любование механическими фигурками связано с чувством ностальгии, мечтами. Также популярное в современной культуре соотнесение себя с каким-нибудь животным (хранение статуэток, кулонов с его приятным, но нереалистичным изображением) обычно напрямую не связано с симпатией к этому существу в природе, его настоящими признаками. Это символ, притча, история — не такая поучительная, как в Средние века, но не менее содержательная для частного человека.
Использованы фотографии: https://www.atlasobscura.com/places/horologium-mirabile-lundense
«Велбуд образом нелеп»: экзотические звери в древнерусской литературе и миниатюре
За тридевять земель, в тридесятом царстве… О некоторых числах в древнерусской культуре
