Предыдущая статья
Меланхолия на русской печке
Следующая статья
Семантика жеста в восточнохристианской иконографии
СМЕХ ДЬЯВОЛЬСКИЙ И СМЕХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
В ДРЕВНЕРУССКОЙ АГИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
В ДРЕВНЕРУССКОЙ АГИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
Павлова А.Ю.
Студент, г. Москва
Выделить богатство эмоциональных характеристик героев как отличительную черту ни древнерусской литературы в целом (того корпуса текстов, который находят возможным причислить к ней), ни отдельных ее жанров (житий, поучений, хождений, повестей и т.д.) не представляется возможным. Древнерусский книжник в подавляющем большинстве случаев не ставил перед собой задачу создать героя, которому будет сопереживать читатель (или человек, который каким-либо образом будет воспринимать произведение), модель поведения которого он сможет примерить на себя и т.д. Тем не менее, нельзя утверждать полное отсутствие эмоциональных эпизодов в разного рода произведениях древнерусской словесности.
Иной вопрос в том, какие именно эмоции обычно репрезентируются в этих текстах, и какие невербальные способы выражения эмоций присущи героям.
Когда мы говорим об эмоции в древнерусской литературе, на ум, скорее всего, в первую очередь приходят следующие тексты: «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет» (здесь считаем возможным особенно отметить «Чтение о Борисе и Глебе»), «Поучение Владимира Мономаха», возможно, некоторые жития. В каждом из этих произведений вполне можно вспомнить лирические центры и их основную эмоцию. В «Слове» - это, безусловно, плачь Ярославны, в «Сказании о Борисе и Глебе» (отметим что часть «Повести временных лет» - «Чтение о Борисе и Глебе» и «Сказание о Борисе и Глебе» – это два разных произведения, текстологическая связь между которыми – отдельный разговор, но в контексте данной статьи все-таки будем иметь в виду именно «Сказание») – это молитва Бориса перед смертью, и плач Глеба перед убийством.
Положительные эмоции, очевидно, гораздо меньше репрезентированы в древнерусской литературе. Насколько велик спектр оттенков страданий, настолько мал круг радостей для героев. Если же все-таки в произведении появляется положительная эмоция, выражается она крайне сдержанно – зачастую это такие эмоции, которые и не требуют экспрессивного выражения радости: счастье принятия, экстатическое торжество, благоговейный страх.
Когда мы говорим об эмоции в древнерусской литературе, на ум, скорее всего, в первую очередь приходят следующие тексты: «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет» (здесь считаем возможным особенно отметить «Чтение о Борисе и Глебе»), «Поучение Владимира Мономаха», возможно, некоторые жития. В каждом из этих произведений вполне можно вспомнить лирические центры и их основную эмоцию. В «Слове» - это, безусловно, плачь Ярославны, в «Сказании о Борисе и Глебе» (отметим что часть «Повести временных лет» - «Чтение о Борисе и Глебе» и «Сказание о Борисе и Глебе» – это два разных произведения, текстологическая связь между которыми – отдельный разговор, но в контексте данной статьи все-таки будем иметь в виду именно «Сказание») – это молитва Бориса перед смертью, и плач Глеба перед убийством.
Положительные эмоции, очевидно, гораздо меньше репрезентированы в древнерусской литературе. Насколько велик спектр оттенков страданий, настолько мал круг радостей для героев. Если же все-таки в произведении появляется положительная эмоция, выражается она крайне сдержанно – зачастую это такие эмоции, которые и не требуют экспрессивного выражения радости: счастье принятия, экстатическое торжество, благоговейный страх.
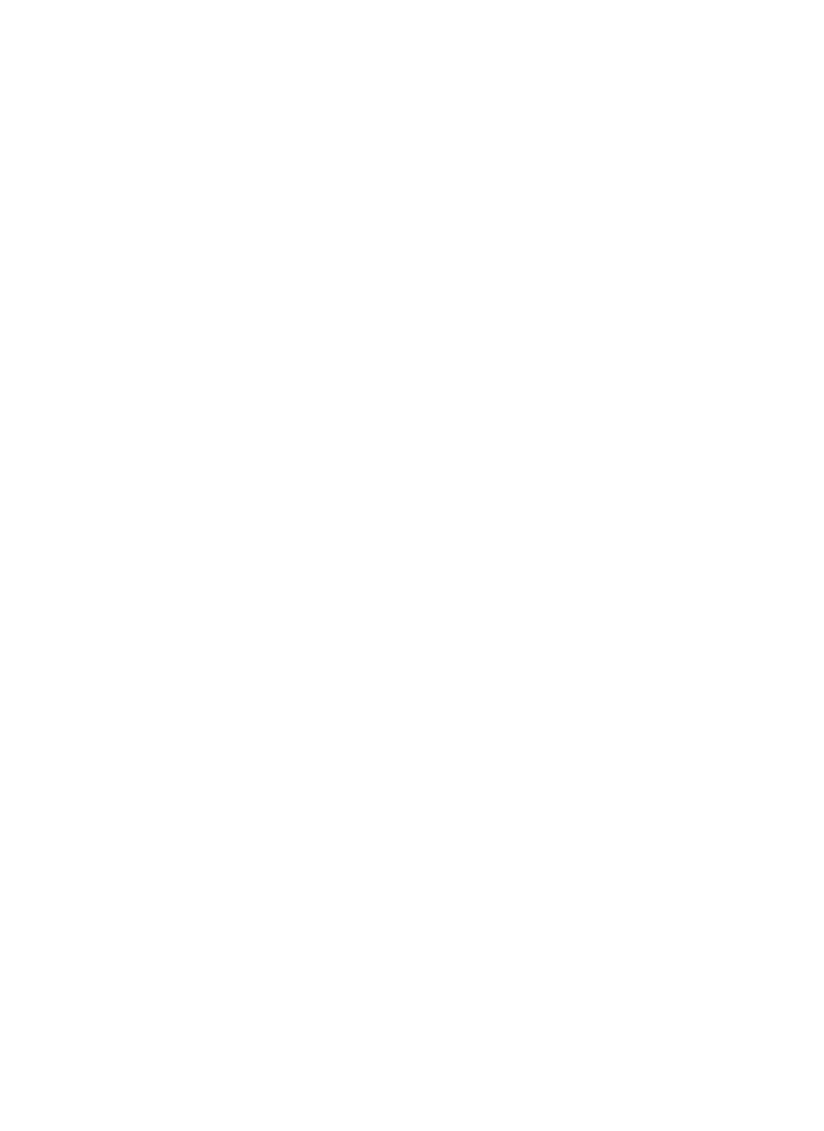
Слово о полку Игореве. Сборник литературный. Нач. XIX в. РНБ, ОР O.XVII.68.
Тем неожиданней явление неприкрытого интенсивного смеха героя в произведениях древнерусской литературы.
То, что смех в древнерусской литературе не является способом выражения положительной эмоции, и вообще, зачастую, не выражает непосредственно какую бы то ни было эмоцию, а представляет собой некий символический, ритуальный, акт доказано и проиллюстрировано с помощью множества примеров такими исследователями, как М.М. Бахтин, Д.С. Лихачевым, А.М. Панченко, Н.В. Понырко и др..
В данной же статье мы кратко рассмотрим явление смеха в произведениях агиографического жанра.
В агиографической литературе смеются три типа персонажей – обыкновенные люди, праведники и бесы.
Смех каждого типа имеет свою специфику: бесовской смех – всегда смех греха. Бесы искушают людей и смеются, наводят морок на праведников и смеются, проказничают в домах и храмах и смеются. Бесы смеются, когда страдает святой, предвкушая еще одну победу в борьбе за человеческую душу; смех – наряду со звериными воем, рыком, визгом, - неотъемлемая составляющая шумового фона, созданного собравшимися в группу бесами или чертями.
Смех каждого типа имеет свою специфику: бесовской смех – всегда смех греха. Бесы искушают людей и смеются, наводят морок на праведников и смеются, проказничают в домах и храмах и смеются. Бесы смеются, когда страдает святой, предвкушая еще одну победу в борьбе за человеческую душу; смех – наряду со звериными воем, рыком, визгом, - неотъемлемая составляющая шумового фона, созданного собравшимися в группу бесами или чертями.
Безудержно смеющийся, «глумящийся» человек немедленно стигматизируется как одержимый.
Смех простого человека также по обыкновению не является положительным. Либо это смех от неверия, либо смех над святым, юродивым, убогим, в любом случае – смех всегда орудие осмеяния и всегда направлен вовне.
Смех же праведника направлен не только вовне, но и внутрь. Как отмечает Д.С. Лихачев в статье «Смеховой мир Древней Руси», древнерусский смех принадлежит к типу средневекового смеха, для которого в свою очередь «характерна направленность на наиболее чувствительные стороны человеческого бытия. Этот смех чаще всего обращен против самой личности смеющегося и против всего того, что считается святым, благочестивым, почетным». [3] В данном случае, смех, скорее, лекарство, нежели орудие. Смех праведника никогда не унижает другого человека. Однако встречаются в древнерусских текстах эпизоды, где праведник намеренно причиняет вред смехом – сразу же стоит оговориться, что вред причиняется бесам.
Смех простого человека также по обыкновению не является положительным. Либо это смех от неверия, либо смех над святым, юродивым, убогим, в любом случае – смех всегда орудие осмеяния и всегда направлен вовне.
Смех же праведника направлен не только вовне, но и внутрь. Как отмечает Д.С. Лихачев в статье «Смеховой мир Древней Руси», древнерусский смех принадлежит к типу средневекового смеха, для которого в свою очередь «характерна направленность на наиболее чувствительные стороны человеческого бытия. Этот смех чаще всего обращен против самой личности смеющегося и против всего того, что считается святым, благочестивым, почетным». [3] В данном случае, смех, скорее, лекарство, нежели орудие. Смех праведника никогда не унижает другого человека. Однако встречаются в древнерусских текстах эпизоды, где праведник намеренно причиняет вред смехом – сразу же стоит оговориться, что вред причиняется бесам.
Таким образом, увидим, что смех праведника будто бы сочетает в себе все остальные типы смеха – праведник может посмеяться над людьми, но не думая оскорбить их, а думая лишь о наставлении на истинный путь и открытии им правды об их собственной глупости и греховности; праведник может безудержно смеяться, глумиться, почти скоморошничать, производить впечатление безумного – но тогда такого человека называют юродивым, а не одержимым. И главное, что включает в себя смех праведника, и чем отличается он от смеха остальных типов, - это направленность на самого себя – ни бес, ни обычный человек, смеясь и насмехаясь, не рассчитывают на то, что станут объектом смеха.
Очевидно, продолжать разговор без того, чтобы от общего «праведника» перейти к более узкому и специфическому понятию «юродивый», нельзя.
Очевидно, продолжать разговор без того, чтобы от общего «праведника» перейти к более узкому и специфическому понятию «юродивый», нельзя.
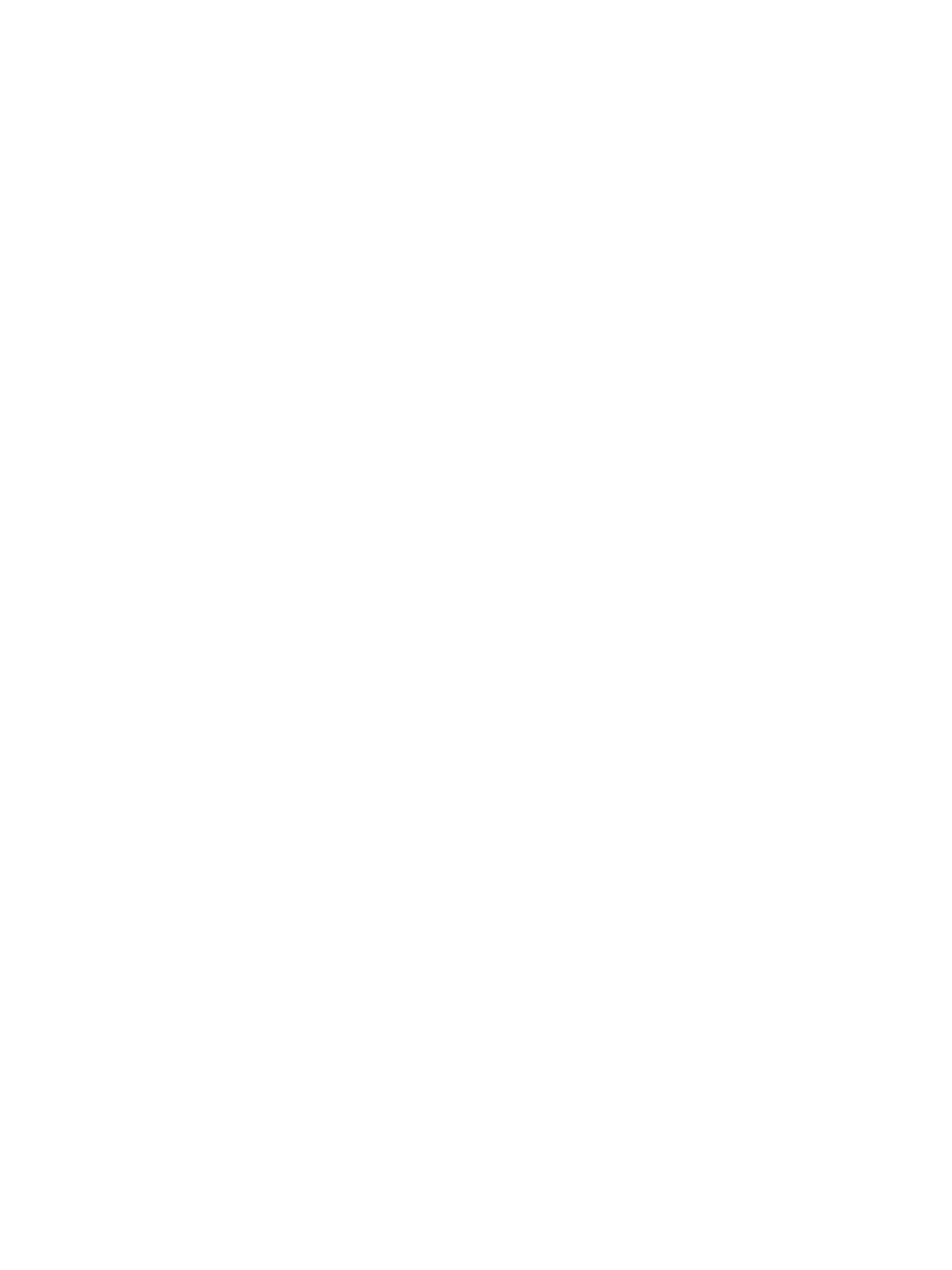
Житие св. Андрея Юродивого. Кон. XVIII в. РНБ, Погод. 697
Феномен юродства и его репрезентация в литературе интересны сами по себе, однако также возможно его рассмотрение в контексте нашей темы. Более того, именно в житиях юродивых чаще всего встречается смех в том или ином его виде, ведь, как отмечает А.М. Панченко в статье «Юродство в Древней Руси», юродство «балансирует на грани между смешным и серьезным, олицетворяя собою трагический вариант смехового мира». [2]
Житие Андрея Юродивого, или Андрея Византийского – одно из самых популярных (несмотря на то, что произведение переводное) и известных житий юродивого в древнерусской литературе. Именно на примере этого жития мы рассмотрим явление разных типов смеха.
В первую очередь отметим эпизод, в котором Андрей становится свидетелем похоронной процессии: «Видя, что происходит над покойником, святой остановился и на долгое время впал в забытье. И увидел: перед свечами идет множество черных демонов, кричащих, заглушая певцов: «Горе ему! Горе ему!» И все, что они кадили, смердело нечистотами, и они несли какие-то мешки и рассыпали попеременно пепел и золу. И все это множество, приплясывая на ходу и нагло смеясь, подобно бесстыжим блудницам, то лаяло по-собачьи, то по-свински визжало. И был для них мертвец предметом веселья и радости». [1] В данном отрывке изображается именно тот бесовской смех, о котором говорилось выше. Веселье бесов обусловлено тем, что умерший человек был великим грешником и перед смертью не успел покаяться. Интересно, что в этой же сцене появляется фигура плачущего, рыдающего ангела, который сожалеет о душе умершего. Андрей, не подозревая еще, что плачущий юноша – ангел Господень, поражается, что человек способен столь сильно скорбеть по умершему.
Поскольку смех, как можно убедиться, весьма неоднозначное явление, автор жития всегда очень точно выбирает момент, когда смеется тот или иной персонаж. Юродивый и святой могут смеяться над бесами, таким образом, утверждая их слабость и отсутствие устрашающей власти над человеческим сердцем и разумом, но никогда смех человеческий, даже как символ победы над страхом, не будет ответом на смех бесовской. Чтобы даже невольно, даже на одно мгновение, смех праведника и смех беса не были смешаны, в эпизодах всегда представляется две противоположные эмоции.
Житие Андрея Юродивого, или Андрея Византийского – одно из самых популярных (несмотря на то, что произведение переводное) и известных житий юродивого в древнерусской литературе. Именно на примере этого жития мы рассмотрим явление разных типов смеха.
В первую очередь отметим эпизод, в котором Андрей становится свидетелем похоронной процессии: «Видя, что происходит над покойником, святой остановился и на долгое время впал в забытье. И увидел: перед свечами идет множество черных демонов, кричащих, заглушая певцов: «Горе ему! Горе ему!» И все, что они кадили, смердело нечистотами, и они несли какие-то мешки и рассыпали попеременно пепел и золу. И все это множество, приплясывая на ходу и нагло смеясь, подобно бесстыжим блудницам, то лаяло по-собачьи, то по-свински визжало. И был для них мертвец предметом веселья и радости». [1] В данном отрывке изображается именно тот бесовской смех, о котором говорилось выше. Веселье бесов обусловлено тем, что умерший человек был великим грешником и перед смертью не успел покаяться. Интересно, что в этой же сцене появляется фигура плачущего, рыдающего ангела, который сожалеет о душе умершего. Андрей, не подозревая еще, что плачущий юноша – ангел Господень, поражается, что человек способен столь сильно скорбеть по умершему.
Поскольку смех, как можно убедиться, весьма неоднозначное явление, автор жития всегда очень точно выбирает момент, когда смеется тот или иной персонаж. Юродивый и святой могут смеяться над бесами, таким образом, утверждая их слабость и отсутствие устрашающей власти над человеческим сердцем и разумом, но никогда смех человеческий, даже как символ победы над страхом, не будет ответом на смех бесовской. Чтобы даже невольно, даже на одно мгновение, смех праведника и смех беса не были смешаны, в эпизодах всегда представляется две противоположные эмоции.
Когда Андрей насильно был введен в жилище блудниц, среди них он увидел беса и осмеял его: «Видя, что Андрей гнушается блуда, разъярился блудный бес и завопил: “Люди меня лелеют, словно мед сладкий, на сердце своем, а этот глумится над всем миром, брезгуя мною, плюет на меня. Да сам ты благой ли цели ради стал юродивым, а не для того ли, чтобы таким образом уклониться от земных трудов?" <…> Блаженный видел его наяву, блудницы же только голос беса слышали, но никого не видели. Сидя среди них, блаженный смеялся над зловонным и безобразным бесом. Увидев, что он смеется, они сказали: “Поглядите, как он со своим демоном смеется"». [1]
Последнее предложение цитаты показывает, каким образом неверно может быть считан смех юродивого. Но так его видят «обычные грешники». Для людей же, который читают житие, автор четко обозначает: Андрей смеется, когда бес разъярен или напуган. Когда же смеется бес – плачет ангел, а святой хранит молчание, дьявол радуется, когда напуган и искушен человек («Сильно испугавшись, юноша прервал молитву и поспешно лег в постель и укрылся своей козичиной. Увидев это, Сатана возрадовался…»[1]).
В данном житии мы можем увидеть акт смеха еще и как своеобразный символ инициации юродивого. Обратившись к началу, прочитаем: «Весь день напролет праведник представлялся безумным и разговаривал, как юродивый, а ночью он заплакал от всего сердца, кланяясь и молясь мученице Христовой, чтобы она явилась ему и, если он достоин, чтобы сказала ему, угоден ли начатый им подвиг…» [1], затем «И все демоны, которые были с ним, бросились на него, желая его зарезать. Он же воздел руки и со слезами возопил к Господу: «Не предай зверям душу мою, верующую в тебя!». [1]
Последнее предложение цитаты показывает, каким образом неверно может быть считан смех юродивого. Но так его видят «обычные грешники». Для людей же, который читают житие, автор четко обозначает: Андрей смеется, когда бес разъярен или напуган. Когда же смеется бес – плачет ангел, а святой хранит молчание, дьявол радуется, когда напуган и искушен человек («Сильно испугавшись, юноша прервал молитву и поспешно лег в постель и укрылся своей козичиной. Увидев это, Сатана возрадовался…»[1]).
В данном житии мы можем увидеть акт смеха еще и как своеобразный символ инициации юродивого. Обратившись к началу, прочитаем: «Весь день напролет праведник представлялся безумным и разговаривал, как юродивый, а ночью он заплакал от всего сердца, кланяясь и молясь мученице Христовой, чтобы она явилась ему и, если он достоин, чтобы сказала ему, угоден ли начатый им подвиг…» [1], затем «И все демоны, которые были с ним, бросились на него, желая его зарезать. Он же воздел руки и со слезами возопил к Господу: «Не предай зверям душу мою, верующую в тебя!». [1]
Решение Андрея стать юродивым испытывалось несколько раз: сначала его сочли безумным или жертвой нечистого духа его хозяин с семьей, после чего Андрей в оковах был отправлен в церковь святой Анастасии на содержание. Это событие приводит к тому, что сам Андрей испытывает неуверенность в выбранном подвиге – сомнение выражается слезами.
Когда Андрей прекратил плакать и молиться, ему явились «пять жен и почтенный старец», среди жен была и великомученица Анастасия, подтверждавшая, что Андрей теперь юродивый Христа ради.
Следующее испытание – уже бесами: «И еще издалека зарычал гнилой старец <ибо он явился в образе старого черта> и бросился на святого, намереваясь убить его секирой, которую держал в руках. И все демоны, которые были с ним, бросились на него, желая его зарезать»[1]. За защитой Андрей также обращается к Господу, и вновь «со слезами». Молитва была услышана, демоны («эфиопы») повержены явившемся старцем, и в то время, когда Бог бичует демонов, Андрей наконец разражается смехом: «Слыша, как они вопят «Помилуй нас!», Андрей невольно начал смеяться. Ему казалось, что эфиопы, как люди, пойманы и их по-настоящему избивают»[1]. После того, как Андрей победил свои страхи и сомнения, и после того, как эта победа обозначилась смехом, он окончательно утвердился в статусе юродивого: в ночь после изгнания бесов Андрею снится сон, в котором Господь принимает юродивого и наставляет его в дальнейшем служении: « “…Но если ты меня успокоишь, все мое твое будет и ты будешь мне другом и причастишься святого царства моего и наследник мой будешь". И сказав это, словно на подвиг его послал. И тотчас Андрей пробудился»[1].
Таким образом, осмеяние беса – это не просто способ применения смеха юродивым, но и своего рода маркер того, что человек полностью уверился в своей духовной силе и выбранном пути. Далее в житии мы отметим, что везде, где Андрей сталкивается с проявлениями греха (в том же доме блудниц, например), он неизменно сопровождается эпитетом «насмешник над Сатаной», всегда или смеется, или улыбается, или «усмехается», или «глумится» (за исключением тех случаев, как уже говорилось выше, когда смеются сами бесы).
Когда Андрей прекратил плакать и молиться, ему явились «пять жен и почтенный старец», среди жен была и великомученица Анастасия, подтверждавшая, что Андрей теперь юродивый Христа ради.
Следующее испытание – уже бесами: «И еще издалека зарычал гнилой старец <ибо он явился в образе старого черта> и бросился на святого, намереваясь убить его секирой, которую держал в руках. И все демоны, которые были с ним, бросились на него, желая его зарезать»[1]. За защитой Андрей также обращается к Господу, и вновь «со слезами». Молитва была услышана, демоны («эфиопы») повержены явившемся старцем, и в то время, когда Бог бичует демонов, Андрей наконец разражается смехом: «Слыша, как они вопят «Помилуй нас!», Андрей невольно начал смеяться. Ему казалось, что эфиопы, как люди, пойманы и их по-настоящему избивают»[1]. После того, как Андрей победил свои страхи и сомнения, и после того, как эта победа обозначилась смехом, он окончательно утвердился в статусе юродивого: в ночь после изгнания бесов Андрею снится сон, в котором Господь принимает юродивого и наставляет его в дальнейшем служении: « “…Но если ты меня успокоишь, все мое твое будет и ты будешь мне другом и причастишься святого царства моего и наследник мой будешь". И сказав это, словно на подвиг его послал. И тотчас Андрей пробудился»[1].
Таким образом, осмеяние беса – это не просто способ применения смеха юродивым, но и своего рода маркер того, что человек полностью уверился в своей духовной силе и выбранном пути. Далее в житии мы отметим, что везде, где Андрей сталкивается с проявлениями греха (в том же доме блудниц, например), он неизменно сопровождается эпитетом «насмешник над Сатаной», всегда или смеется, или улыбается, или «усмехается», или «глумится» (за исключением тех случаев, как уже говорилось выше, когда смеются сами бесы).
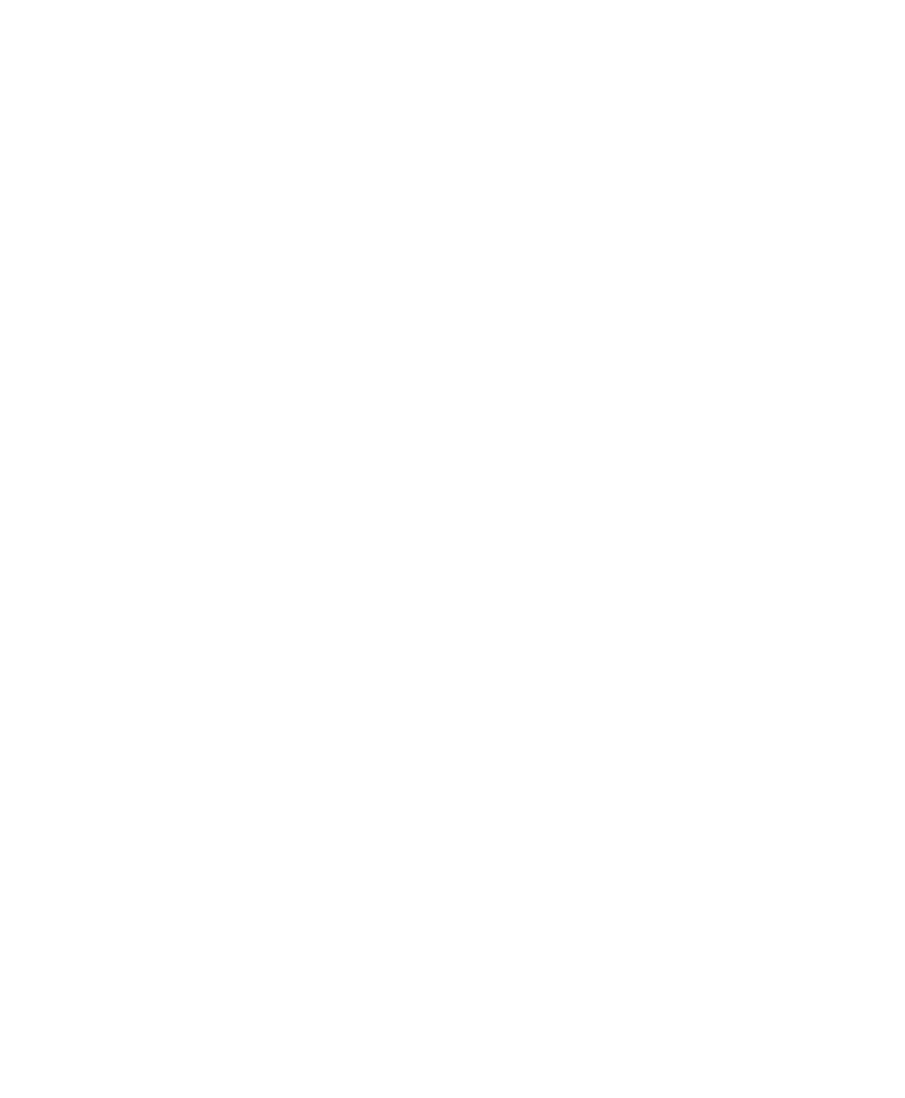
Житие св. Андрея Юродивого. Нач. XVIII в. Q.I.1143
Не менее важно отметить эпизод Жития, в котором смеются простые люди: «И выйдя на улицу, он [Андрей] начал бегать, юродствуя. Видевшие его, смеясь над ним, говорили: “Хорошая попона лежит на твоем осле, юродивый". Он же отвечал: “Воистину это вы юродивые, я ношу добрую одежду. Ибо Господин мой сделал меня патрикием"»[1]. Смех людей – не от радости, такой смех имеет под собой отрицательные эмоции. Явление юродивого и его поведение – это лакмусовая бумажка для людей, «для грешных очей это зрелище — соблазн, для праведных — спасение. Тот, кто видит в поступках юродивого грешное дурачество, низменную плотскость, — бьет лицедея или смеется над ним. Тот, кто усматривает «душеполезность» в этом «странном и чудном» зрелище, — благоговеет». [2]
Смех обычного человека однозначно интерпретируется в эпизоде как греховное деяние, наказание за которое, так или иначе, настигает тех, кто позволяет себе осмеивать вставшего на путь служения Господу. В случае Андрея, наказание для людей – отсутствие прозрения, но встречаются в житиях более прямые и однозначные примеры кары за осмеяние.
За примером обратимся к «Житию Василия Блаженного». Один из присущих юродствующим внешний признак – в высшей степени бедная, жалкая одежда. Естественно, внешний вид в том числе обращает на себя внимание обычных людей, когда они сталкиваются с юродивыми. «Проходил по торжищу Христа ради юродивый, где сидели женщины, продававшие свое рукоделие. Посмеялись они наготе его и все ослепли» [2].
Смех обычного человека однозначно интерпретируется в эпизоде как греховное деяние, наказание за которое, так или иначе, настигает тех, кто позволяет себе осмеивать вставшего на путь служения Господу. В случае Андрея, наказание для людей – отсутствие прозрения, но встречаются в житиях более прямые и однозначные примеры кары за осмеяние.
За примером обратимся к «Житию Василия Блаженного». Один из присущих юродствующим внешний признак – в высшей степени бедная, жалкая одежда. Естественно, внешний вид в том числе обращает на себя внимание обычных людей, когда они сталкиваются с юродивыми. «Проходил по торжищу Христа ради юродивый, где сидели женщины, продававшие свое рукоделие. Посмеялись они наготе его и все ослепли» [2].
Житие Василия Блаженного интересно для нас еще и тем, что в нем также встречается эпизод осмеяния блаженным беса:
«Бывшие в корчемнице спрашивали о причине смеха, и разумно отвечал им Христа ради юродивый: “Когда корчемник призвал имя лукавого, то с его словом он взошел в сосуд; когда же хотевший пить вино оградил себя крестным знамением, вышел из сосуда демон и бежал из корчмы. Я же засмеялся от великой радости и хвалю помнящих Христа Спаса нашего и осеняющих себя во всех делах своих крестным знамением, которым отражается вся сила вражия"» [2]. Несмотря на то, что сам Василий говорит, что засмеялся «от великой радости», акт смех здесь не может быть интерпретирован как просто способ выражения положительной эмоции, так как изначально смех обозначен специфически: «блаженный Василий, как бы юродствуя, громко засмеялся и рукоплескал», т.е. в данном случае мы вновь сталкиваемся со смехом символическим. Смех блаженного Василия сопровождает бегство беса, тем самым ускоряя его изгнание и полностью нивелируя угрозу, которую тот мог бы представлять для человека.
Таким образом, смех – весьма редко описываемое явление в древнерусской литературе вообще, но в случае агиографического жанра - никогда смех не является показателем наличия какой-либо эмоции. В житиях юродивых более наглядно, чем где бы то ни было, показывается, что смех всегда связан с неким действенным актом, с осмеянием. В случае, когда осмеяние направлено против юродивого, - это смех обычных людей, усматривающих в юродстве болезнь и отвращающих ум и душу от юродивых, или смех бесов – как составляющая общего звериного шума или как еще один способ искушения; осмеяние бесом человека – это попытка разгневать его, обмануть, одурачить и заставить вступить в игру с дьяволом. Иной случай – смех самого юродивого, который также может быть направлен на разные объекты. Обращенный против бесов смех праведника – символ, во-первых, торжества над соблазном, во-вторых, победы над страхом, в некоторых случаях смех не просто символизирует победу над бесом, но инициирует начало борьбы с ним. Обращенный против людей смех – всегда назидателен, дидактичен, при этом, как и беса, раздражает обычного человека. Ключевое отличие осмеяния юродивым людей в том, что смеясь над кем-то, праведник никогда не отделяет себя от объектов смеха. Когда смех обращен к людям, он одновременно обращен и на самого смеющегося, на юродивого. Как отмечал Д.С. Лихачев, древнерусский смех – «это смех “раздевающий" [3], обнажающий правду, смех голого, ничем не дорожащего», очевидно, что в рассмотренных нами произведениях эту роль «раздевающего смехом» выполняли юродивые – Андрей Византийский и Василий Блаженный.
«Бывшие в корчемнице спрашивали о причине смеха, и разумно отвечал им Христа ради юродивый: “Когда корчемник призвал имя лукавого, то с его словом он взошел в сосуд; когда же хотевший пить вино оградил себя крестным знамением, вышел из сосуда демон и бежал из корчмы. Я же засмеялся от великой радости и хвалю помнящих Христа Спаса нашего и осеняющих себя во всех делах своих крестным знамением, которым отражается вся сила вражия"» [2]. Несмотря на то, что сам Василий говорит, что засмеялся «от великой радости», акт смех здесь не может быть интерпретирован как просто способ выражения положительной эмоции, так как изначально смех обозначен специфически: «блаженный Василий, как бы юродствуя, громко засмеялся и рукоплескал», т.е. в данном случае мы вновь сталкиваемся со смехом символическим. Смех блаженного Василия сопровождает бегство беса, тем самым ускоряя его изгнание и полностью нивелируя угрозу, которую тот мог бы представлять для человека.
Таким образом, смех – весьма редко описываемое явление в древнерусской литературе вообще, но в случае агиографического жанра - никогда смех не является показателем наличия какой-либо эмоции. В житиях юродивых более наглядно, чем где бы то ни было, показывается, что смех всегда связан с неким действенным актом, с осмеянием. В случае, когда осмеяние направлено против юродивого, - это смех обычных людей, усматривающих в юродстве болезнь и отвращающих ум и душу от юродивых, или смех бесов – как составляющая общего звериного шума или как еще один способ искушения; осмеяние бесом человека – это попытка разгневать его, обмануть, одурачить и заставить вступить в игру с дьяволом. Иной случай – смех самого юродивого, который также может быть направлен на разные объекты. Обращенный против бесов смех праведника – символ, во-первых, торжества над соблазном, во-вторых, победы над страхом, в некоторых случаях смех не просто символизирует победу над бесом, но инициирует начало борьбы с ним. Обращенный против людей смех – всегда назидателен, дидактичен, при этом, как и беса, раздражает обычного человека. Ключевое отличие осмеяния юродивым людей в том, что смеясь над кем-то, праведник никогда не отделяет себя от объектов смеха. Когда смех обращен к людям, он одновременно обращен и на самого смеющегося, на юродивого. Как отмечал Д.С. Лихачев, древнерусский смех – «это смех “раздевающий" [3], обнажающий правду, смех голого, ничем не дорожащего», очевидно, что в рассмотренных нами произведениях эту роль «раздевающего смехом» выполняли юродивые – Андрей Византийский и Василий Блаженный.
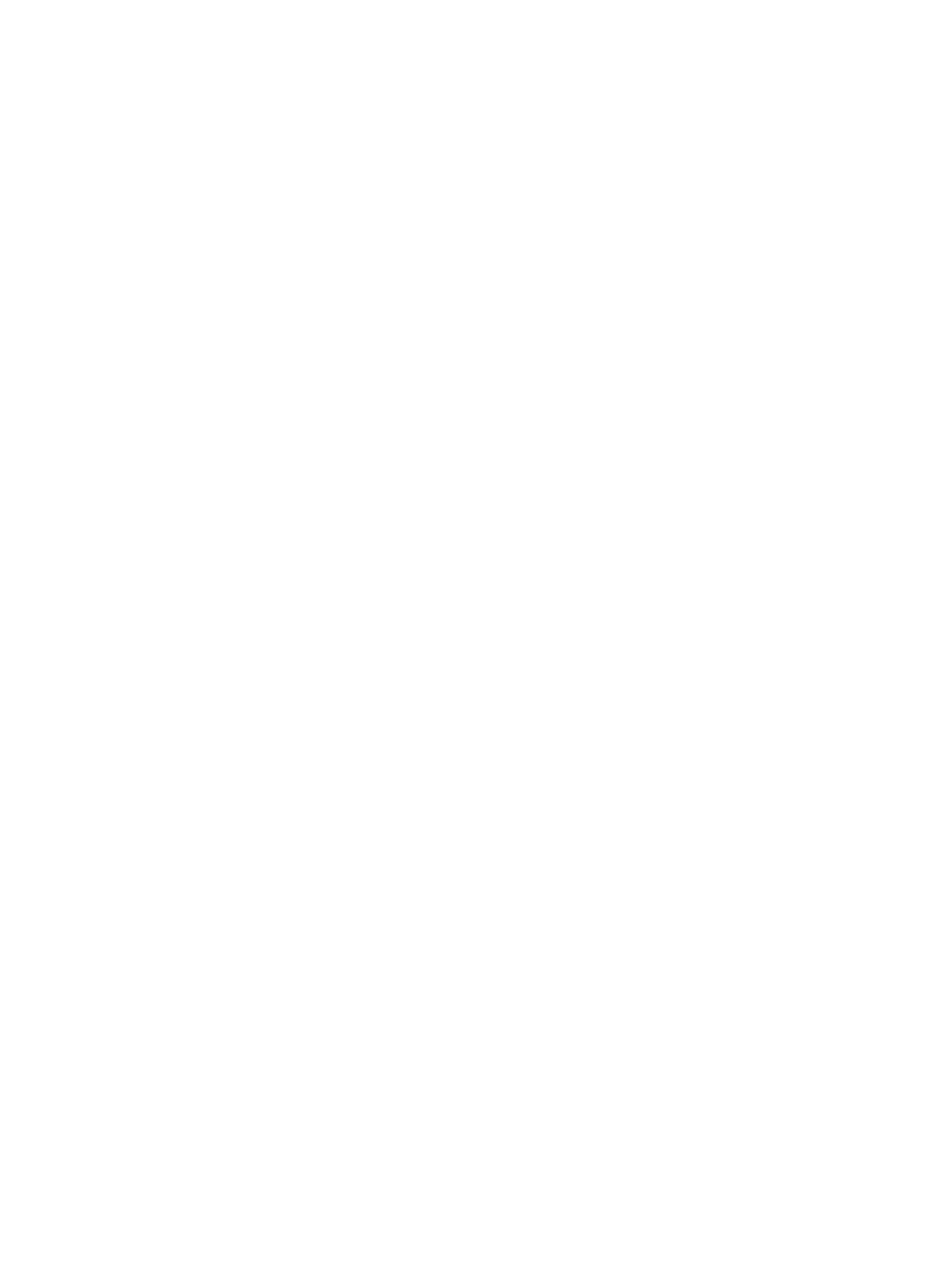
Житие Василия Нового, кон. XVIII в. РГБ, Ф.98 №375
Список литературы:
1. Житие Андрея Юродивого/подг.и пер. А.М. Молдован.
2. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. – Л.: Наука, 1984. – 295 с.
3. Лихачев Д.С., Панченко А.М.: Смеховой мир Древней Руси
1. Житие Андрея Юродивого/подг.и пер. А.М. Молдован.
2. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. – Л.: Наука, 1984. – 295 с.
3. Лихачев Д.С., Панченко А.М.: Смеховой мир Древней Руси
Предыдущая статья
Меланхолия на русской печке
Следующая статья
Семантика жеста в восточнохристианской иконографии
