СИМВОЛИКА ЗВЕРЯ
В ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
В ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ "ЗЕЛО"
ZELOMI.RU
ZELOMI.RU
Буцких Н.В. Символика льва в древнерусском искусстве
Войкова В.В. Символическое значение лошади в древнерусской иконописи
Панин М.О. Образ Ноевого ворона в средневековых русских источниках
Полещук Д.В. Святой Антоний и кентавр
Тарасов А.Е. Верблюд Ивана III: о великокняжеском даре псковскому посольству в 1463/1464 г.
Мантай Р.В. Притчи о животных в Житии Варлаама и Иоасафа
Войкова В.В. Символическое значение лошади в древнерусской иконописи
Панин М.О. Образ Ноевого ворона в средневековых русских источниках
Полещук Д.В. Святой Антоний и кентавр
Тарасов А.Е. Верблюд Ивана III: о великокняжеском даре псковскому посольству в 1463/1464 г.
Мантай Р.В. Притчи о животных в Житии Варлаама и Иоасафа
янваРЬ2018
СИМВОЛИКА ЛЬВА В ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Буцких Н.В.
Основатель Центра. Культуролог.
Преподаватель Академии Теологии и Искусств.
Автор курса «Визуальные коды в древнерусской литературе».
г. Санкт-Петербург.
Основатель Центра. Культуролог.
Преподаватель Академии Теологии и Искусств.
Автор курса «Визуальные коды в древнерусской литературе».
г. Санкт-Петербург.
В древнерусской культуре образ льва один из самых распространенных, и в то же время противоречивых. В текстах наряду с реалистичными описаниями зверя присутствуют совершенно невероятные предания о свойствах льва. Многочисленные сюжеты, в которых фигурирует лев, заимствованы из совершенно различных источников - библейских текстов, античных легенд и славянских преданий, поэтому сложный образ зверя может трактоваться совершенно противоположными способами: как положительно – образ храброго воина, праведника, Христа, так и отрицательно – неправедного правителя, смерти и даже самого дьявола. Подобная амбивалентность будет характерна и для изображений зверя – это и простодушный веселый львенок, и гордо шагающий царь зверей, и свирепый пожиратель душ человеческих.
Инициал"В" в виде льва. Евангелие Хитрово, XIV в.
Инициал "В" в виде льва. Луцкое Евангелие, XIV в.
Мы почти не встречаем описаний внешнего облика льва в русской литературной традиции. Исключение составляет «Собрание от древних философов о неких собствах естества животных», приписываемое Дамаскину Студиту, чаще называемое «Физиологом Дамаскина Студита». В этом переводном произведении облик хищника описан следующим образом: «Лев - царь всех четвероногих, как орел - всех летающих. Имеет великую грудь, колени крепкие, ноги твердые, взгляд имеет царский и страшный. Шерсть его густая, уста его широкие, ребра его крепкие, бедра его толстые, ноги его великие, походка его гордая, шея его толстая. Кости его не имеют ни пустот, ни мозга, как у других животных». Это описание, весьма условное, рисует нам великого непобедимого зверя, что дополняется некоторыми необычными свойствами, указывающими на царское достоинство льва: «Когда бежит поймать животное, не преклоняет голову свою, но держит ее высоко, как непобедимый царь».
Короткое упоминание о рационе льва указывает на то же самое: «Ест много, а пьет мало». Малое количество принимаемой воды имеет символическое значение, которое в статье о льве не упомянуто, однако раскрывается в описании орла – царя всех летающих: «Никогда в жизни своей не пьет воду, поскольку не подобает ему, царю всех птиц, быть рабом плотских желаний». Еще одно предание, описывающее и льва, и орла, утверждает, что когда царь зверей насытится, то оставляет остатки пищи «в сени некоей», и дует на нее, отчего никакое другое животное не смеет приблизиться к еде.
Лев на маргиналии Радзивилловской летописи, XV в.
Лев - царь зверей. Миниатюра Псалтири, XVII в.
В «Физиологах», популярных сочинениях бестиарного типа, где каждой особенности зверя дается религиозно-догматическое или морально-дидактическое истолкование, лев – царь зверей почти всегда имеет положительную символику, часто являясь прообразом Христа – Царя мира. Как правило, «Физиологи» описывают три свойства, уподобляющих зверя Христу.
Первая особенность льва связана с распространенным мотивом оживления детенышей. В древнейшей из сохранившихся рукописей Физиолога александрийской редакции мы читаем: «Когда львица рождает львенка, рождает его мертвым и стережет три дня, до тех пор, пока не придет его отец, дунет в лицо ему, и тот оживет». Оживление на третий день явно отсылает нас к трехдневной смерти Христа. В толковании лев-отец отождествляется с Богом-Отцом, львенок с Христом, образ же львицы толкователь обходит стороной: «Так и Бог Вседержитель, Отец всего, на третий день воскресил первородного Своего Сына и «рожденного прежде всякого творения» Господа нашего Иисуса Христа, да спасет заблудший род людской». Также к статье об оживлении львенка добавлена и цитата из Писания: «Хорошо сказал Иаков: «…и как львенок, кто пробудит его?». Эта отсылка к Книге Бытия о льве Иуды была уже в Апокалипсисе Иоанна Богослова соотнесена со Христом: «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот, победил лев, который от колена Иудина, корень Давидов».
Первая особенность льва связана с распространенным мотивом оживления детенышей. В древнейшей из сохранившихся рукописей Физиолога александрийской редакции мы читаем: «Когда львица рождает львенка, рождает его мертвым и стережет три дня, до тех пор, пока не придет его отец, дунет в лицо ему, и тот оживет». Оживление на третий день явно отсылает нас к трехдневной смерти Христа. В толковании лев-отец отождествляется с Богом-Отцом, львенок с Христом, образ же львицы толкователь обходит стороной: «Так и Бог Вседержитель, Отец всего, на третий день воскресил первородного Своего Сына и «рожденного прежде всякого творения» Господа нашего Иисуса Христа, да спасет заблудший род людской». Также к статье об оживлении львенка добавлена и цитата из Писания: «Хорошо сказал Иаков: «…и как львенок, кто пробудит его?». Эта отсылка к Книге Бытия о льве Иуды была уже в Апокалипсисе Иоанна Богослова соотнесена со Христом: «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот, победил лев, который от колена Иудина, корень Давидов».
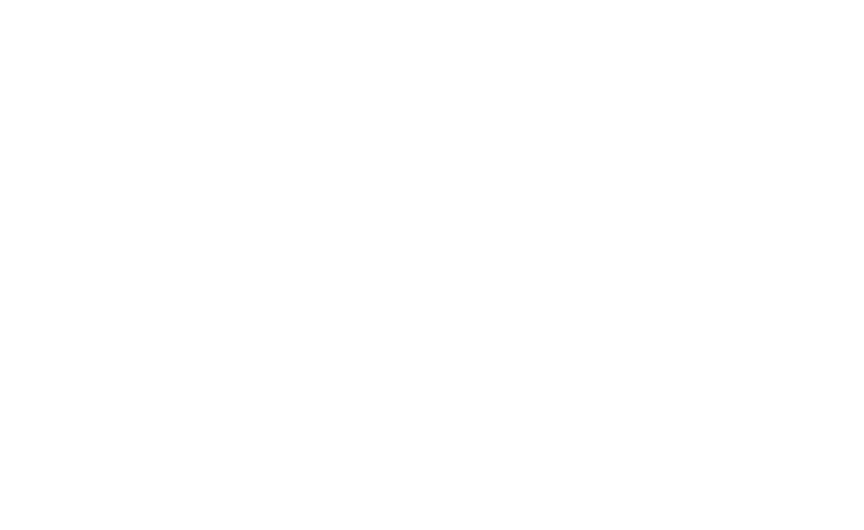
Лев оживляет львенка своим дыханием. Миниатюра Физиолога, XV в.
Византийская версия Физиолога излагает то же предание с небольшим дополнением: львица рождает не только мертвого, но и слепого детеныша. При этом кардинально отличается толкование этого сюжета: акцент делается на слепоте детеныша, который уподобляется язычникам, еще не просвещенным благодатью крещения: «Также и о верных народах, ибо прежде крещения они мертвы, после же крещения получают зрение от Святого Духа». Встречается и более редкая версия, где лев-отец также образ Святого Духа, который «дунул, и ожили, и вышли все из ада». Более поздняя версия этого сюжета исключает мотив оживления дыханием, львица рождает льва, и стоит над ним три дня и три ночи, пока он не оживет и не «начнет царствовать над всеми земными зверями». Такая особенность львицы имеет параллели в животном царстве – например, птица струфокамил должна три дня неотрывно смотреть на яйцо, чтобы из него вылупился птенец. Толкование отождествляет львицу с Богоматерью, а льва с Христом, который по воскресении стал царствовать над святыми: «Львица – это пресвятая Богородица, а лев – Христос, умер плотью во гробе на три дня и три ночи, и не воздремал Божеством, сошел в преисподнюю часть земли, и сокрушил вереи вечные, и воскрес на третий день и стал царствовать над всеми святыми».
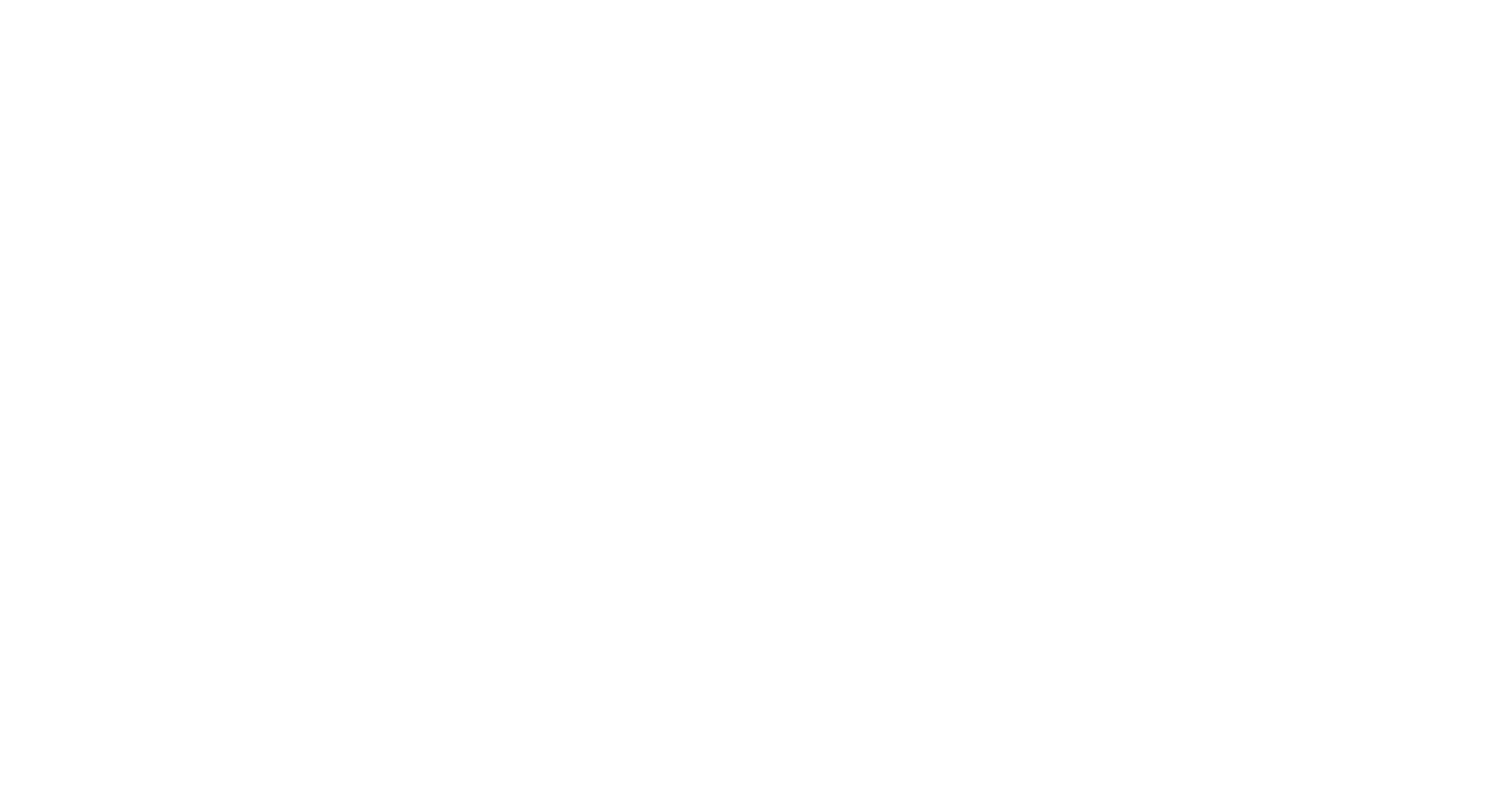
Лев на заставке Остромирова Евангелия, XI в.
Второе свойство льва заключается в том, что, когда лев спит, его глаза открыты: «Когда спит лев в пещере своей, его очи бодрствуют, ибо его веки подняты, как и Соломон свидетельствует в Песни Песней, говоря: «Я сплю, а сердце Мое бодрствует». Ибо Господь мой плотью на кресте умер, а Божество Его одесную Отца бодрствовало». В подтверждение этого автор добавляет еще одну библейскую цитату: «Ибо не задремает, не уснет Тот, кто хранит Израиль». То же свойство, только в более кратком варианте предлагает и византийская редакция Физиолога, и т.н. «Физиолог Дамаскина Студита». Более последовательное объяснение дает нам встречающаяся в рукописных сборниках статья «О недреманном оке Спасителя»: «Лев спит одним глазом, а другим смотрит. Так и Христос, уснув во гробе плотью, все видел Божеством». Это широко распространенное свойство могло послужить символической основой иконографии «Спас Недреманное Око», на некоторых иконах мы даже можем увидеть льва в ногах у возлежащего на одре Христа.
Спящие львы. Лев в ограде. Миниатюры Псалтири XVII в.
Согласно третьему свойству, лев заметает свои следы хвостом, дабы скрыться от охотников: «Когда идет в гору, хотя поймать добычу, и почувствует запах человека, хвостом своим скрывает следы свои, дабы идущие за ним не нашли его следа и не поймали его». Символика и этой особенности перенесена на Христа: как лев заметает следы, так и Христос, «духовный лев», при воплощении скрыл Свою Божественную природу. Здесь также находится параллель со словами Псалтири, обращенными к Богу: «И стези Твои в водах многих, и следы Твои не познаются». В таком контексте это свойство льва символизирует Божественную непостижимость: «Ибо ни дорога на воде не сохраняется, ни следы льва, ни Божественные пути». Физиолог византийской редакции указывает, что следы заметает львица. Толкование здесь вновь иное. Автор обращается к читателю с моральной сентенцией: «Так и ты, человек, когда творишь милостыню, пусть твоя левая рука не знает, что делает десница, дабы не помешал дьявол воплощению твоих мыслей». Встречается и иное сходное толкование: «Смотри же, человек, что делает (неразумный) зверь, устраивая свое спасение. Ты же, будучи разумным человеком, покрой следы свои, то есть грехи, ради покаяния». Иногда к этому свойству прибавляется и бесстрашие льва, дабы его бегство от охотников не показалось его слабостью: «И заметает следы хвостом, чтобы не выследили его. Когда же они оставят его, он возвращается к ним без страха, и много борется с ними благодаря имеющейся силе».
Образ грозного льва имеет тоже несколько характерных особенностей, так, «когда разъярен, ударяет по ребрам своим хвостом своим», «любит честь, падших пред ним зверей на землю не уязвляет», являясь, таким образом, символом сильных и непобедимых воинов. Также и победа надо львом является выражением силы и смелости человека. Наиболее распространенный образ подобного противоборства относится к пророку Давиду, который, защищая свои стада, умерщвлял льва и медведя. Этот сюжет будет многократно воспроизводиться в русских лицевых Псалтирях и «Христианских Топографиях».
Образ грозного льва имеет тоже несколько характерных особенностей, так, «когда разъярен, ударяет по ребрам своим хвостом своим», «любит честь, падших пред ним зверей на землю не уязвляет», являясь, таким образом, символом сильных и непобедимых воинов. Также и победа надо львом является выражением силы и смелости человека. Наиболее распространенный образ подобного противоборства относится к пророку Давиду, который, защищая свои стада, умерщвлял льва и медведя. Этот сюжет будет многократно воспроизводиться в русских лицевых Псалтирях и «Христианских Топографиях».
Давил повергает льва. Миниатюра Псалтири XV в.
Давид повергает льва. Миниатюра Псалтири кон. XVI в.
Среди особенностей следует отметить рык льва, который часто упоминается авторами сочинений. Образ рыкающего льва известен еще из библейских текстов: Давид, описывая притеснения от врагов, говорит: «Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий». В послании Петра в качестве негативного персонажа выступает дьявол, который «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Подобное рыкание в значении свирепости будет усвоено и древнерусской литературой. Уже в Житии Феодосия Печерского князь «как лев рыкнув на праведного», Мамай в «Сказании о Мамаевом побоище» пошел на Русь «аки лев ревый». В Псковской летописи образ ревущего льва переносится на Ивана Грозного: «Пришел царь… в великой ярости, как лев рыкая, хотя растерзать неповинных людей».
Рыкание льва обладает свойством обездвиживать или даже убивать прочих зверей. Часто эта особенность объединяется со скрытным характером льва, сидящим в засаде. Так, к словам псалма «Подстерегает в потаенном месте, как лев в ограде своей», в толковании Кирилла Александрийского сказано: «Ибо говорят, что львы на горах в своих логовищах почивают, и прячутся, дабы скрытностью своей устрашать прочих животных, которыми они питаются. Когда же увидит лев какое (животное), подошедшее близко, быстро вскочив, громогласно рыкает, и нестерпимо его оглушив, нападает и хватает эту прилучившуюся (добычу), прежде страхом расслабив его жилы». Это толкование, известное на Руси по Толковой Псалтири Максима Грека, заключает, что лев является образом дьявола. О рыкании, обездвиживающем зверей, упоминается и в естественнонаучных сочинениях: «Лев сильным и страшным гласом зверей обездвиживает, которых издалека настигнуть не может». О смертоносном рыкании льва упоминается и в Александрии: «Когда рыкнет один лев, множество зверей погибает». В «Физиологе Дамаскина Студита» есть подобное описание, лишенное, правда, рыкания, но добавляющее иное прочтение образу его «ограды»: «Где будет спать, создает круг хвостом своим, как некое круговидное гумно, и внутри его спит. Дикие же звери снаружи обходят этот круг, и не дерзают войти внутрь. Если же кто приблизится к этому обозначению, лев, тотчас проснувшись, хватает его». Толкование призывает человека обходить удовольствия этого мира, чтобы не впасть в лапы льву, то есть демона.
Рыкание льва обладает свойством обездвиживать или даже убивать прочих зверей. Часто эта особенность объединяется со скрытным характером льва, сидящим в засаде. Так, к словам псалма «Подстерегает в потаенном месте, как лев в ограде своей», в толковании Кирилла Александрийского сказано: «Ибо говорят, что львы на горах в своих логовищах почивают, и прячутся, дабы скрытностью своей устрашать прочих животных, которыми они питаются. Когда же увидит лев какое (животное), подошедшее близко, быстро вскочив, громогласно рыкает, и нестерпимо его оглушив, нападает и хватает эту прилучившуюся (добычу), прежде страхом расслабив его жилы». Это толкование, известное на Руси по Толковой Псалтири Максима Грека, заключает, что лев является образом дьявола. О рыкании, обездвиживающем зверей, упоминается и в естественнонаучных сочинениях: «Лев сильным и страшным гласом зверей обездвиживает, которых издалека настигнуть не может». О смертоносном рыкании льва упоминается и в Александрии: «Когда рыкнет один лев, множество зверей погибает». В «Физиологе Дамаскина Студита» есть подобное описание, лишенное, правда, рыкания, но добавляющее иное прочтение образу его «ограды»: «Где будет спать, создает круг хвостом своим, как некое круговидное гумно, и внутри его спит. Дикие же звери снаружи обходят этот круг, и не дерзают войти внутрь. Если же кто приблизится к этому обозначению, лев, тотчас проснувшись, хватает его». Толкование призывает человека обходить удовольствия этого мира, чтобы не впасть в лапы льву, то есть демона.
Лев нападает на праведника. Миниатюра Угличской Псалтири, XV в.
Лев нападает на праведника. Миниатюра Годуновской Псалтири, XVI в.
Зверь нападает на прор. Илию. Миниатюра Апокалипсиса, XVII в.
Неразрывно связан с дьяволом, (князем мира сего, подобно тому, как лев – царь четвероногих) и образ смерти, которая мыслится на Руси как инфернальный персонаж. Поэтому образ льва часто будет обозначать «ищущую кого поглотить» смерть.
Подобная связь появилась еще в раннехристианскую эпоху, когда образ Даниила во рве со львами будет трактоваться как символ воскресения Христа и победы над смертью. В древнерусских сочинениях сам облик смерти нередко сравнивается с яростным зверем. В «Повести о споре жизни и смерти» последняя имеет «страшный облик, подобно ревущему льву». Аллегорией смерти выступает лев в «Притче о богатом от болгарских книг». Это сказание, являясь одним из вариантов «Притчи о временнем сем веце», повествует о человеке, который пытается убежать от разъяренных льва и верблюда. Толкование притчи отождествляет верблюда со старостью (зверь этот считался на Руси уродливым), а льва со смертью. Этот сюжет часто помещался в иллюстрированные Синодики. Образ льва как хищника попадает в иллюстрации Апокалипсиса и в сцены Страшного суда. Изображение земли, которая отдает своих мертвецов, часто сопровождается львами и прочими хищниками, отдающими пожранные ими человеческие останки.
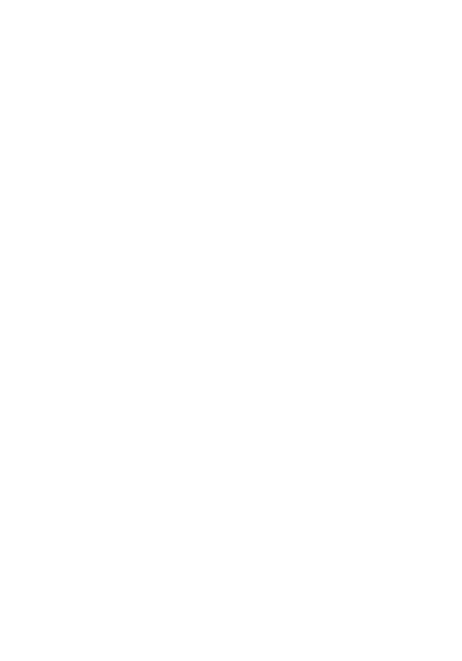
Звери возвращают пожранные человеческие останки. Слово о втором пришествии Палладия мниха, XVIII в.
Закрепляется и прямо противоположная трактовка. Смерть в виде скелета, которая, согласно описанию Иоанна Богослова, едет на худой лошади, в искусстве XVI века восседает уже на льве, вместе с которым желает не вернуть, а, напротив, поглотить человеческие души, что придает ее облику более зловещий характер. Смерть на льве включена и в программу композиции «Единородный Сыне».



Притча о богатом. Миниатюра Синодика.
Смерть верхом на льве. Миниатюра Синодика.
Притча о богатом. Миниатюра лицевого Цветника.
В одном из Сборников смешенного содержания XVIII века имеется любопытное описание иконографии «Благовещение у колодца»: «О Благовещении. Пишется образ святого Благовещения Пречистой Богородицы, а с Ней рабыня, а под ногами колодец, а у колодца лев и кот, и два орла, один багряный, другой облачный». Сама история о Благовещении у колодца, основанная на тексте Протоевангелия Иакова, весьма распространена в иконографии, однако изображения редко включают дополнительные подробности. Толкование подобной необычной иконографии следующее: «Колодцем называется жизнь этого мира, в два орла, багряный – это ангел хранитель, а синий – ангел сатанинский. А лев – это враг (т.е. сатана), который смотрел и рыкал на Чистую Деву до Благовещения. Когда же увидел ангела, упал дьявол как кот». Все образы традиционны для древнерусской притчевой литературы. Так, ров или колодец как метафора этого мира встречается еще в Библии. Две птицы (горлица и ворон) как образы ангела и демона известны по уже упомянутой «Притче о богатом». Изображений такой трактовки Благовещения не встречается, однако элементы такого описания почти полностью совпадают с иллюстрациями к притче о чистой душе, широко распространенной в Синодиках XVII-XVIII вв. Душа в образе крылатой девы льет из кувшина свои слезы и держит цветок. В руке у нее поводок, к которому привязан лев, под ногами змей. Рядом, как правило, темная фигура падающего черта. Аллегорический образ явно восходит к символике Жены, облеченной в солнце из Апокалипсиса, лев и змей отсылают нас к словам Псалтири «Будешь попирать льва и змия». На образ Благовещения сюжет мог быть перенесен, поскольку упомянутую в Откровении Деву нередко толковали как Богоматерь, способствовали этому и традиционные для «Благовещения у колодца» атрибуты: цветок и кувшин.
Лев и змей. Миниатюры XVII в.
Образ льва как свирепого хищника будет почти обязательным элементом искушений святых. Это могут быть и реальные пустынные звери, и демоны, принявшие образы тех или иных зверей для устрашения праведников. В летописном описании жития прп. Исакия так описываются дьявольские козни: «Иной раз пугали его то в образе медведя, то лютого зверя, то вола, то вползали к нему змеями, или жабами, или мышами и всякими гадами». Лютый зверь, то есть просто хищник, как правило, в литературе обозначает льва, как самого характерного и страшного представителя животного царства. Львы могут и не быть упомянуты в текстах житий, но в иллюстративных циклах присутствуют почти всегда.
Искушения святых. Миниатюры XV - XVII вв.
Все тот же хищный зверь в контексте житийной литературы будет выступать и с прямо противоположной символикой – как представитель первозданной природы, где даже самые страшные звери покорялись человеку. Праведник, достигший святости в земной жизни, становится подобен Адаму, еще не преступившему заповедь. Подобные примеры смиренных львов, помогающих монахам, широко распространены. Стоит упомянуть Житие Герасима Иорданского, которому лев, избавленный святым от занозы, служил всю свою жизнь, а также эпизод из Жития Марии Египетской. Преподобный Зосима, будучи стар, не имел физической возможности похоронить святую. Тогда он увидел большого льва и очень испугался. Лев же «начал радоваться старцу, только что не целуя старца». Тогда святой понял, что лев здесь неслучайно, и попросил его когтями своими вырыть яму для погребения, что лев и исполнил. «И тогда отошли оба: лев в пустыню, как овечка, шел, Зосима же в монастырь возвратился, прославляя и хваля Христа, Бога нашего». Такое восприятие покорного хищника, не терзающего добычу, но смиренно сосуществующего с другими представителями животного царства, как было сказано, отсылает нас к райским временам. Поэтому многочисленные иллюстрации жизни Адама и Евы в раю, изгнания из рая, всемирного потопа, как в миниатюре, так и во фресковой живописи будут включать изображения льва, часто возглавляющего шествие зверей, как их правителя. Имеются и литературные параллели таких изображений. В Хронографе 1512 года сцена наречения животных описывается как торжественное шествие зверей для поклонения их владыке: «Были приведены (Творцом к Адаму) лев зияющий, губитель тельцов, медведи грозноокие и пестрейшие леопарды, пестрокожие олени, густохвостые лисицы, слон твердолобый и телец рогобивый» и т.д.

Лев выкапывает могилу Марии Египетской. Житийный сборник, XVII в.
Лев среди зверей в библейских сценах. Миниатюры Синодиков XVII-XVIII вв.
С грозным характером зверя и его образом царя зверей связана и символика правителя, как в положительных трактовках, так и в негативных. Так, старообрядческое «Слово о рассечении человеческого естества» уподобляет образ грозного льва злым правителям. Многочисленные басни и притчи описывают образ трусливого льва, испугавшегося рева лягушки, или мнительного льва, как, например, в «Повести о Стефаните и Ихнилате». Негативный образ льва часто связан с его старостью или болезнью. Есть несколько историй, касающихся подобного состояния. Так, старый лев, в отличие от молодого, нападает на домашний скот, тогда как второй имеет силы ловить диких животных.
Интересно описание старого льва, который омолаживается путем поедания другого животного: «Когда же занеможет, и придет к смерти, не имеет лекарства, как если только съесть обезьяну. Поэтому, когда болен, рыкает, и собираются все животные в его логове, тогда приходит и обезьяна, и тот никакого другого животного не желает, но только обезьяну хватает и съедает». Другое предание говорит о пожирании львом змеи для омоложения, однако в данном случае на зверя перенесена особенность оленя. Среди басен Эзопа, имевших хождение на Руси, встречается немощный лев, как образ правителя, которого мудрый человек избегает: «Некогда лев из-за великого голода стал недужен, и повелел с великим запрещением, чтобы пришли в его логово все звери для обсуждения важных дел. Звери же, боясь нарушить его повеление, во двор его все собрались. Лисица же, подойдя к двору льва, увидев следы многих зверей, во двор льва пришедших, и ни одного ушедших, сказала себе: «Воистину они все безумны, ибо все погибли». Лев же этих зверей всех убил, и пищу себе надолго уготовил». Мораль басни: мудрый человек может убежать от сетей сильных в нужное время, в которые «простой народ сами себя отдают».

Пророк Даниил во рве. "Книгы шестинадесятих пророк". Россия, XV в.
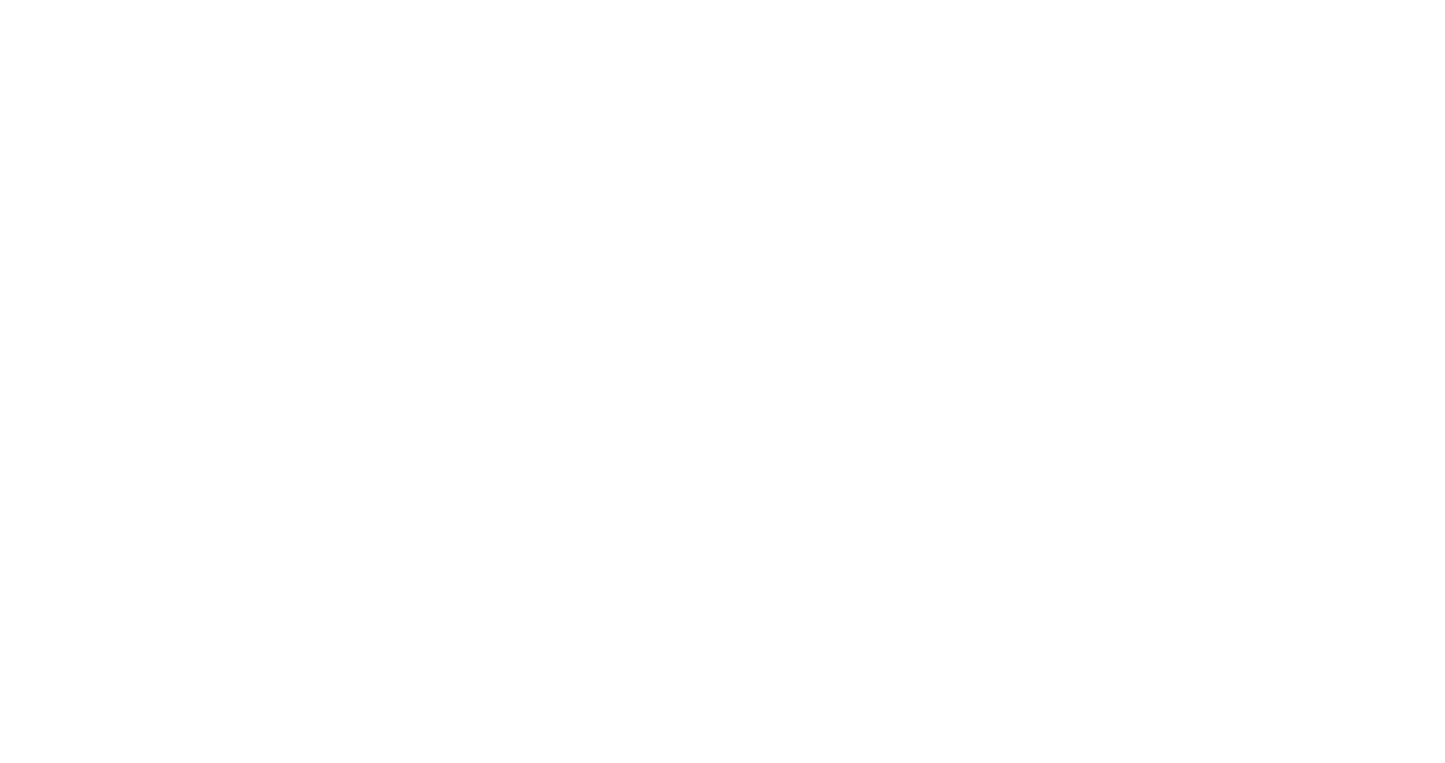
Пророк Даниил во рве со львами. Миниатюра Псалтири, XVII в.
Особой популярностью в изобразительном искусстве лев, наряду с орлом и тельцом, обязан видению пророка Иезекииля. Пророк описывает удивительное существо с четырьмя лицами: человека, льва, орла и тельца. Тех же четырех животных мы встречаем и в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Оставив в стороне изначальную символику тетраморфа, отметим, что уже ранние отцы церкви толковали этих животных аллегорически. Особенно интересно соотнесение четырех животных с самим Христом.
Так, Григорий Богослов относил образ человека к воплощению, тельца – к жертве, льва – к победе над смертью, орла – к вознесению Христа. Со временем преобладающей точкой зрения стало соотнесение животных с евангелистами, основанное, в первую очередь, на тех аспектах жизни Христа, которые в большей степени затрагиваются тем или иным апостолом. На Руси было несколько вариантов отождествлений зверей с авторами евангелий. Первая, отображенная еще в миниатюрах Остромирова Евангелия, соотносит со львом евангелиста Марка, вторая, предложенная Андреем Кесарийским, указывает льва символом евангелиста Иоанна. Толкование Андрея Кесарийского часто будет сопровождать текст Апокалипсиса, а потому лев как символ Иоанна закрепится в старообрядческой традиции. Лев, в данной трактовке, как существо неземное, часто имеет крылья, голова его окружена нимбом, в руках он держит книгу – атрибут евангелиста.

Крылатый лев - символ евангелиста Марка. Никольское Евангелие, XIV в.
При этом широко распространены изображения льва и лишенного крыльев, почти неотличимого от земного зверя, так, например, лев может мирно возлежать у ног евангелиста. Также лев с крыльями может иметь и негативную символику, отсылающую нас к видению пророка Даниила, где звери обозначают нечестивые царства, которые будут повергнуты.
Лев - символ евангелиста Марка. Евангелие Хитрово, XIV в.
Звери из видения пророка Даниила. Онежская Псалтирь, XIV в.
Подобная разнородность представлений о льве почти нивелирует внешний облик хищника, однако можно выделить основные атрибуты изображения царя зверей. Цвет льва может варьироваться от привычного желтого до красного, и даже голубовато-серого. Грива либо привычно окружает голову, либо слегка обозначена на загривке, лев имеет большие когти и хвост, конец которого часто орнаментирован. Стоит отметить, что хвост его часто выходит из-под задней лапы. Такой тип изображений можно рассматривать как указание на свирепый характер хищника, бьющего себя хвостом по бокам. Лапа льва поднята, что отсылает нас к описаниям гордой поступи льва, который «вначале воздвигает левую лапу». Язык льва, как правило, высунут. Подобным образом изображаются и другие хищники – волки и драконы. Этот элемент может как указывать на хищный характер, так и визуализировать рев льва, подобно тому, как и высунутый язык волка – его вой. Часто выделяет льва среди других животных поворот его головы, зверь смотрит прямо на зрителя. Поворот анфас в средневековом искусстве может иметь несколько символических толкований. Это и выделение главного персонажа, что вполне подходит льву – царю зверей, и маркирование негативного персонажа, что в контексте символики льва тоже может быть вполне оправдано. Подобный поворот головы выявляет еще одну необычную характеристику облика зверя: обращенная к зрителю морда обретает человеческие черты, что помогает воспринимать льва не только как представителя животного царства, но и как образ, несущий в себе не всегда легко раскрываемый символический подтекст.
янваРЬ2018
СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛОШАДИ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ИКОНОПИСИ
Войкова В.В.
Искусствовед, г. Москва.
Искусствовед, г. Москва.
Звери становятся частью иконографической программы уже в самых первых христианских памятниках. Изображения животных в древнерусской иконе встречаются довольно часто. Иконописцы рисовали прежде всего обитавших по близости существ. Одним из таких был конь, который издавна служил на благо человеку.
Конь с древности имел сакральное значение на Руси, что подтверждается упоминанием его во многих языческих сказаниях и преданиях. Главнейшего бога славянского пантеона – Перуна иногда представляли в образе конного всадника или едущего на колеснице по небесам. Он побеждал врагов, пуская в них стрелы [1] . Образ небесного всадника-триумфатора описан и в Священном Писании: «И увидел я отверстое небо, и вот, конь белый, и сидящий на нем называются Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует» (Откр. 19:11). На грядущую победу Правителя, нисходящего с неба, символически указывает белый конь. Таким образом, мотив всадника- победителя злых сил воплощает в себе, с одной стороны, пережитки языческого прошлого, а с другой - христианскую догматику [2] . Одна из самых древних сохранившихся русских икон с изображением всадника - «Чудо Георгия о змие с житием» датируется первой половиной XIV века и находится в Русском музее. Георгий изображен как подобает воину: в облачении и с доспехами. Парящий конь наполнен сознательной силой. Победа свершается с помощью молитвы. Меч не касается змея, символизирующего дьявольскую, хтоническую сущность, весь облик которой злобен, а взгляд полон коварства.
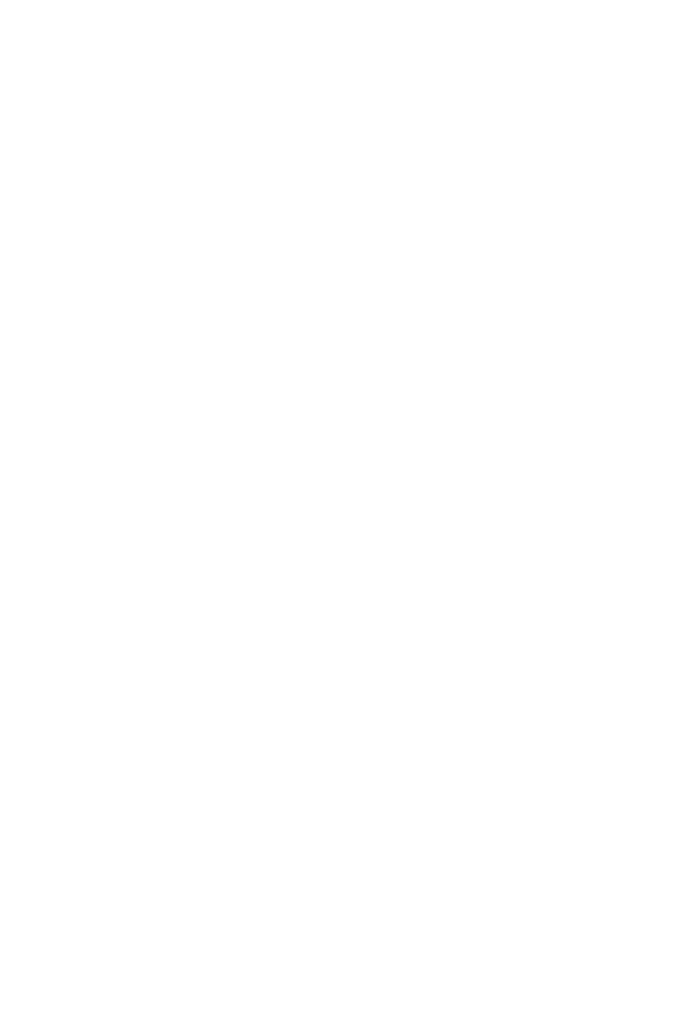
Чудо Георгия о змие, с житием в 14 клеймах. Средник.
Первая половина XIV века.
Первая половина XIV века.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
В иконе первой половины XV века из Третьяковской галереи об этом же чуде Георгий протыкает пасть змея копьем. Взгляд коня при этом послушно направлен на всадника, словно в ожидании команды. Художник пластически объединяет животное и человека, создавая динамичное движение, направленное на противника.
Святые Борис и Глеб на иконе, хранящейся в Новгородском музее, тоже показаны в виде всадников.
Такая иконография относится к достаточно распространенному в древнерусском и византийском искусстве типу изображения конных святых воинов [3] . Кони в данном случае служат для создания мужественных образов. Композиция очень цельная, четыре тела будто слиты воедино и все вместе внушают торжественное величие светлого облика борцов со злом.
Святые Борис и Глеб на иконе, хранящейся в Новгородском музее, тоже показаны в виде всадников.
Такая иконография относится к достаточно распространенному в древнерусском и византийском искусстве типу изображения конных святых воинов [3] . Кони в данном случае служат для создания мужественных образов. Композиция очень цельная, четыре тела будто слиты воедино и все вместе внушают торжественное величие светлого облика борцов со злом.
Чудо Георгия о змие. Первая половина XV в.
Гсударственная Третьяковская галерея, Москва.
Гсударственная Третьяковская галерея, Москва.
Борис и Глеб на конях. Около 1377 г.
Новгородский музей.
Новгородский музей.
В XVII веке получает широкую популярность эсхатологическая иконография архангела Михаила как Архистратига – верховного представителя небесного воинства [4] . В этом качестве он изображается скачущим на коне. Значимость животного, как и его всадника, здесь несколько иная. Он предстает уже не просто земным созданием, но и частью дольнего мира, его верным сподвижником. Зверь изображается пламенно-красным, и у него, как и у Михаила, есть крылья, чтобы лететь по небу и служить благой цели. Конь представляет собой неотъемлемую часть атрибутики меченосца, борца за справедливость и охранителя человеческого спокойствия.
На иконе «Вознесение пророка Илии» из Карельского музея изобразительных искусств показан еще один тип изображения лошади. В колесницу впряжены четыре коня, примкнувших друг другу. Все они находятся в одном каноническом движении. Животные являются двигателем огненной стихии, вознося пророка прямо на Небеса [5] . В этом случае они спущены на землю не для военных действий.
На иконе «Вознесение пророка Илии» из Карельского музея изобразительных искусств показан еще один тип изображения лошади. В колесницу впряжены четыре коня, примкнувших друг другу. Все они находятся в одном каноническом движении. Животные являются двигателем огненной стихии, вознося пророка прямо на Небеса [5] . В этом случае они спущены на землю не для военных действий.
Архистратиг Михаил – воевода. Первая пол. XVII в.
Собрание П. Корина, Москва.
Собрание П. Корина, Москва.
Средник иконы «Огненное восхождение пророка Ильи с житием» 1647 г.
Карельский музей изобразительных искусств.
Карельский музей изобразительных искусств.
В коне видели не только военную и транспортную функцию. Для крестьян он был прежде всего помощником в возделывании земли и потому - кормильцем. В связи с необходимостью небесного покровительства домашнего скота на Руси становятся популярны византийские святые, которые были близки к животному миру. Особенно ярко эта тенденция проявилась в северных областях (Новгороде, Пскове) [6] . Покровителями лошадей на Руси считались святые Флор и Лавр [7] . На новгородской иконе конца XV века, находящейся в Третьяковской галерее, о чуде Флора и Лавра Архангел Михаил вручает святым поводья от двух запряженных коней. Так символически изображено предание балканских христиан о том, что Архангел научил мучеников искусству управлять лошадьми, так как сам является покровителем домашних животных [8] .
Чудо о Флоре и Лавре. Конец XV в.
Третьяковская галерея, Москва.
Третьяковская галерея, Москва.
Два коня, которых держит Михаил, находятся в динамике и одновременно в покое, таким образом выражая устремление земного существования (в виде коней у водопоя под ними) к небесному (в образе Архангела и святых над ними). Три всадника - это пастухи, святые мученики и родные братья: Спевсипп («ускоряющий бег коня»), Елевсипп («гонящий коня») и Мелевсипп («ухаживающий за конем») [9] . Они гонят табун лошадей к водопою. Этот табун являет собой природную силу, но обузданную и требующую заботы.
Лошадь сыграла роль и в сложении древнерусской иконографии в праздничном цикле икон. В изображении «Рождества Христова» в византийской традиции рядом с яслями непременно должны располагаться вол и осел, символизируя собой должных примкнуться к Христу иудеев (вол) и язычников (осел). Но на Руси эти символы утрачивают свой смысл вместе с заменой в большинстве икон осла на коня, а вола на корову, более близких животных русскому человеку. [10] Примером может служить икона из иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля.
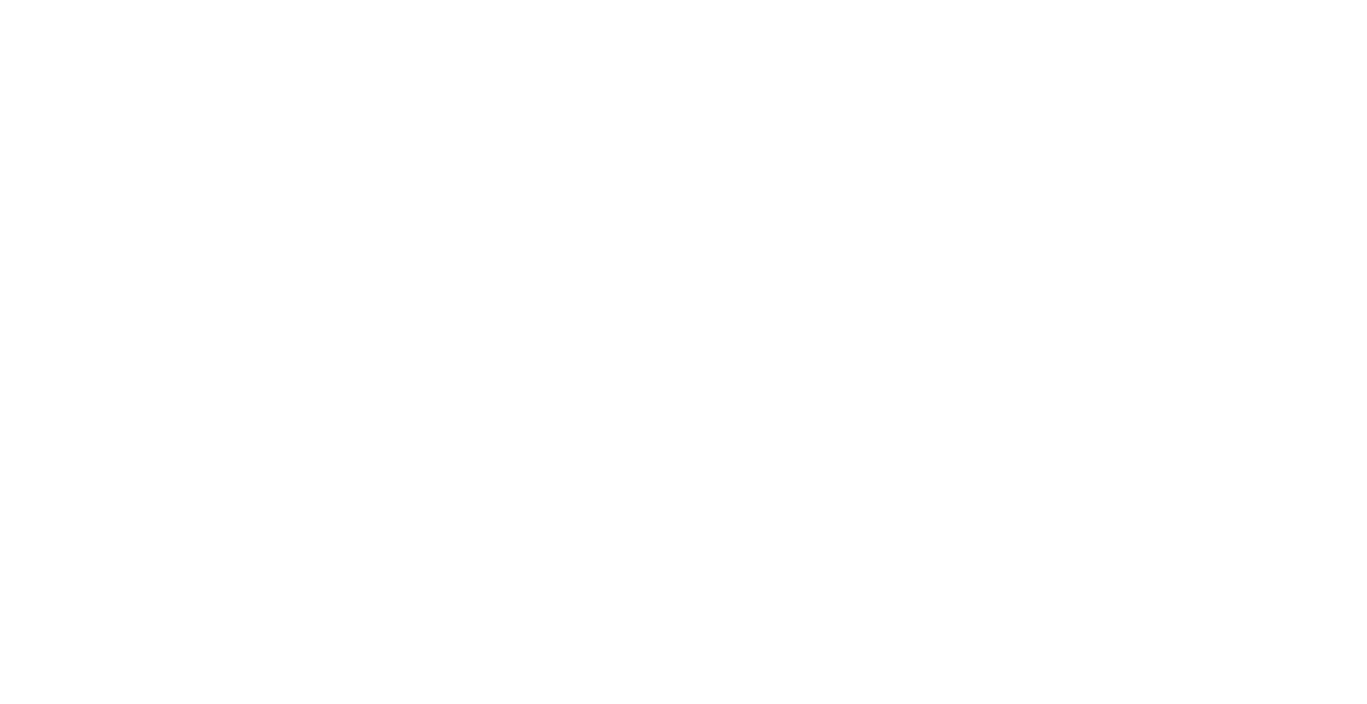
Фрагмент иконы «Рождество Христово» из иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. 1405 г.
Невозможно закончить повествование о лошадях, не упомянув об иконографическом типе, запрещенном распоряжением Синода в начале XVIII века [11] . Речь идет об изображении святого Христофора Песьеглавца. Нельзя сказать однозначно имело ли предание о песьей голове святого Христофора иносказательный смысл, но канонически он должен изображаться с головой пса [12] . Во многих русских иконах, например из музея-заповедника «Ростовский кремль» первой половины XVII века, его голова гораздо больше напоминает лошадиную, чем собачью [13] . Изображение сосредоточенной в молитве лошадиной морды еще раз подтверждает очень теплую привязанность древнерусского человека к коню.

Святой мученик Христофор. Фрагмент иконы. Первая половина XVII в.
Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»
Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»
[1] Капица Ф. С. Тайны славянских богов. Мир древних славян магические обряды и ритуалы. Славянская мифология христианские праздники и обряды/ Ф. С. Капица.-М.:РИПОЛ КЛАССИК,2007.-63 с.
[2] Мухин Андрей Сергеевич Хтонические мотивы в староладожской фреске «Чудо Георгия о змие» // ТРУДЫ СПБГИК. 2009. №. С.220-226
[3] Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII — начало XV века / [АН СССР. Научный совет по истории мировой культуры; Ин-т истории искусств Мин-ва культуры СССР]. — М.: Наука, 1976. — 392 с.: ил. С 220.
[4] Тычинская, П. А. Древнейшие изображения архангела Михаила грозных сил воеводы/П. А. Тычинская/Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.-2012.-№133.-с 164-175.
[5] Овчинников, А. Н. Символика христианского искусства/Овчинников А. Н./М.: Родник, 1999. — 520 с.: ил. С 362.
[6] Лазарев., В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века/ В. Н. Лазарев/М.: Искусство, 2000.-152с. С 21.
[7] там же, с 55.
[8] там же с 56.
[9] там же с 64.
[10] Покровский, Н. В.Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских/ Покровский Н. В./ М.: Прогресс-Традиция, 2001. — 564 с.: ил. С 163.
[2] Мухин Андрей Сергеевич Хтонические мотивы в староладожской фреске «Чудо Георгия о змие» // ТРУДЫ СПБГИК. 2009. №. С.220-226
[3] Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII — начало XV века / [АН СССР. Научный совет по истории мировой культуры; Ин-т истории искусств Мин-ва культуры СССР]. — М.: Наука, 1976. — 392 с.: ил. С 220.
[4] Тычинская, П. А. Древнейшие изображения архангела Михаила грозных сил воеводы/П. А. Тычинская/Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.-2012.-№133.-с 164-175.
[5] Овчинников, А. Н. Символика христианского искусства/Овчинников А. Н./М.: Родник, 1999. — 520 с.: ил. С 362.
[6] Лазарев., В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века/ В. Н. Лазарев/М.: Искусство, 2000.-152с. С 21.
[7] там же, с 55.
[8] там же с 56.
[9] там же с 64.
[10] Покровский, Н. В.Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских/ Покровский Н. В./ М.: Прогресс-Традиция, 2001. — 564 с.: ил. С 163.
[11] Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Православного исповедания Российской империи. — СПб., 1872. Т. II. 1722 г. С.294 № 625 С. 293—295.
[12] Максимов Е. Н. Образ Христофора Кинокефала: Опыт сравнительно-мифологического исследования // Древний Восток: К 75-летию академика М. А. Коростовцева. — Сб. 1. — М.: Наука, 1975. — С. 82. — 76-89 с.
[13] Липатова С. Н. Святой мученик Христофор Песьеглавец: Иконография и почитание. — М.: Православие.ру, 22.05.2007 г.
[12] Максимов Е. Н. Образ Христофора Кинокефала: Опыт сравнительно-мифологического исследования // Древний Восток: К 75-летию академика М. А. Коростовцева. — Сб. 1. — М.: Наука, 1975. — С. 82. — 76-89 с.
[13] Липатова С. Н. Святой мученик Христофор Песьеглавец: Иконография и почитание. — М.: Православие.ру, 22.05.2007 г.
янваРЬ2018
ОБРАЗ НОЕВОГО ВОРОНА В СРЕДНЕВЕКОВЫХ РУССКИХ ИСТОЧНИКАХ
Панин М.О.
Студент исторического факультета ОНУ им. Мечникова.
г. Одесса.
Студент исторического факультета ОНУ им. Мечникова.
г. Одесса.
Легенда о всемирном потопе – одна из наиболее распространённых в мире мифологем. Несмотря на известность сюжета, в историографии тема разработана слабо, в связи с чем представляет собой богатое поле для дальнейших исследований.
Для мировоззрения средневекового христианина был характерен провиденциализм – вера в то, что исторические события связаны напрямую с Божественным промыслом и имеют определённое Богом начало и конец. Именно эта черта диктовала необходимость вносить библейскую историю в летописи, хроники и хронографы, а также в иллюстрации к ним; носители русской письменной культуры не были тут исключением.
Таким образом, ветхозаветные сюжеты становились основой для многочисленных пересказов по древнейшей истории человечества в вышеупомянутых исторических источниках. Но, следует отметить, что ввиду сложности формирования единого библейского канона, из-за смешивания библейской традиции с фольклорной (апокрифической), а также в следствие трудностей перевода, пересказы одного и того же библейского сюжета порой весьма отличались друг от друга, и несли в себе некоторые оригинальные черты. Легенда о всемирном потопе занимает среди них заметное место.
Отсюда проистекает и цель данной статьи: рассмотреть эпизод с вороном в контексте легенды о всемирном потопе во всём его многообразии; проследить эволюцию представлений об образе ворона; дать им интерпретации.
Для мировоззрения средневекового христианина был характерен провиденциализм – вера в то, что исторические события связаны напрямую с Божественным промыслом и имеют определённое Богом начало и конец. Именно эта черта диктовала необходимость вносить библейскую историю в летописи, хроники и хронографы, а также в иллюстрации к ним; носители русской письменной культуры не были тут исключением.
Таким образом, ветхозаветные сюжеты становились основой для многочисленных пересказов по древнейшей истории человечества в вышеупомянутых исторических источниках. Но, следует отметить, что ввиду сложности формирования единого библейского канона, из-за смешивания библейской традиции с фольклорной (апокрифической), а также в следствие трудностей перевода, пересказы одного и того же библейского сюжета порой весьма отличались друг от друга, и несли в себе некоторые оригинальные черты. Легенда о всемирном потопе занимает среди них заметное место.
Отсюда проистекает и цель данной статьи: рассмотреть эпизод с вороном в контексте легенды о всемирном потопе во всём его многообразии; проследить эволюцию представлений об образе ворона; дать им интерпретации.
Для начала следует напомнить саму легенду. Рассматриваемый нами сюжет начинается с того, что Бог решает наказать человечество за грехи устроив потоп, но сохраняет семью одного праведника – Ноя и велит ему построить ковчег, в котором тот спасётся вместе с семьёй и животными. Начинается дождь: воды заполнили землю и погубили человеческий род. Из-за особой конструкции окон корабля, Ной не может видеть, что происходит снаружи, – здесь мы переходим к исследуемому эпизоду с птицами-разведчиками, – праведник выпускает птиц: «И через 40 дней Ной открыл сделанное им окно в ковчеге и послал ворона, чтоб посмотреть, не сошла ли вода с земли, и тот, полетев, не вернулся, пока вода на земле не схлынула.» [3]. На этом эпизод с вороном в Острожской Библии (XVI в.) – самой старой церковно-славянской канонической Библии, к которой имеется доступ в Интернете – заканчивается (!).
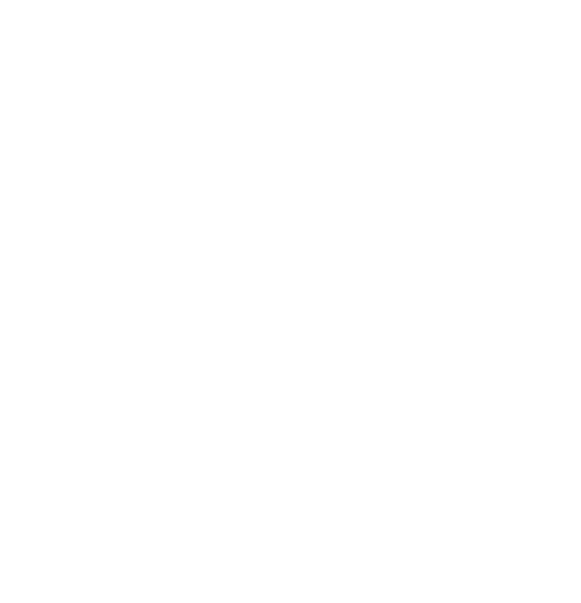
Строительство Ковчега.
Миниатюра Лицевого летопискного свода, XVI в.
Далее Ной начинает выпускать голубя каждые семь дней. В первый раз голубь вернулся к Ною не найдя суши, во второй раз вернулся с масленичной веточкой, что говорило о снижении уровня воды – и в третий раз голубь не вернулся вообще. Ковчег открывается, люди и животные выходят на обновлённую землю, Ной, в благодарность Богу, приносит жертву, заключается завет с Богом.
Итак, прежде чем погрузиться в русскую описательную традицию сюжета, видится необходимым показать путь распространения легенды с краткой оценочной характеристикой ворона в культурах Древнего Востока.
Вслед за Дж.Дж. Фрэзером – английским религиоведом, этнологом и фольклористом, признаем, что описание всемирного потопа в Библии восходит к древнешумерской легенде, а именно к «Эпосу о Гильгамеше» [8, с. 78-79], в котором мы находим следующее свидетельство: «Вынес голубя и отпустил я; отправившись, голубь назад вернулся: места не нашёл, прилетел обратно. Вынес ласточку и отпустил я; Отправившись, ласточка назад вернулась: места не нашла, прилетела обратно. Вынес ворона и отпустил я; ворон же, отправившись спад воды увидел, не вернулся; каркает, ест и гадит.» [1, с.76-77].
Разница с библейской/иудейской версией очевидна. Спасительной птицей, несущей своим длительным отсутствием благую весть Утнапиштиму (прообразу Ноя), здесь явился ворон.
Итак, прежде чем погрузиться в русскую описательную традицию сюжета, видится необходимым показать путь распространения легенды с краткой оценочной характеристикой ворона в культурах Древнего Востока.
Вслед за Дж.Дж. Фрэзером – английским религиоведом, этнологом и фольклористом, признаем, что описание всемирного потопа в Библии восходит к древнешумерской легенде, а именно к «Эпосу о Гильгамеше» [8, с. 78-79], в котором мы находим следующее свидетельство: «Вынес голубя и отпустил я; отправившись, голубь назад вернулся: места не нашёл, прилетел обратно. Вынес ласточку и отпустил я; Отправившись, ласточка назад вернулась: места не нашла, прилетела обратно. Вынес ворона и отпустил я; ворон же, отправившись спад воды увидел, не вернулся; каркает, ест и гадит.» [1, с.76-77].
Разница с библейской/иудейской версией очевидна. Спасительной птицей, несущей своим длительным отсутствием благую весть Утнапиштиму (прообразу Ноя), здесь явился ворон.
Важно отметить, что среди иудеев бытовало и существует представление о разделении животных на «чистых» и «нечистых». Нечистых животных нельзя было употреблять в пищу и приносить в жертву Богу. Законы Моисея о чистоте и нечистоте имели целью отделить «народ Божий» от язычников, религия которых считалась нечистой. И ворон по этой схеме был определён как птица нечистая. Дж.Дж. Фрэзер сообщает примечательный для нас сюжет: «В десятый день месяца таммуз Ной выпустил ворона посмотреть и сообщить ему, не прекратился ли потоп. Но ворон нашел плавающий в воде труп и принялся его пожирать; увлекшись этим делом, он забыл вернуться к Ною с докладом.» [8, с. 89], – на наш взгляд, определение ворона как нечистой и падшей птицы послужило основной причиной для появления вышеупомянутой древнеиудейской апокрифической традиции, пытающейся дополнить и рационализировать негативное отношение к этой птице. Подобные экскурсы необходимы для того, чтобы лучше понять метаморфозы в образе ворона, представления о котором менялись из-за местных традиций восприятия, которые, к тому же, имеют тенденцию накладываться одна на другую. Так, эпизод с вороном-трупоедом перекочует в русские изложения и, что самое интересное, получить собственную интерпретацию, о чём будет идти речь далее.
Эпизод с «прилетающим и отлетающим» вороном также проник в христианскою среду, о чём свидетельствует большое количество западно-европейских и византийских источников. Уже в IV в. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, в своих «Беседах», рассуждая о вороне, приходит к выводу, что невозвращение птицы на ковчег можно объяснить только тем, что она «усмотрела трупы людей и животных, и в них нашла сродную себе пищу» [5, с. 261-262].
Для христианского мира, смотрящего на Ветхий Завет через призму Нового, теряется актуальность разделения животных на чистых и нечистых по иудейскому принципу. Отчего тогда сохранилось представление о «поганом» вороне? Исключительно из-за универсальности апокрифического сказания – народная традиция всего лишь дополняет то, что не сказала Библия. Вероятно, христианские авторы неосознанно перелагали этот материал, не имея за образом ворона какой-либо специальной семантической привязки.
Во многих русских средневековых источниках, содержащих ветхозаветную историю, в том числе и легенду о всемирном потопе, эпизод с птицами-разведчиками напрочь отсутствует; среди них: «Повесть временных лет» (XII в.), «Русский хронограф» (1512 г.), «Густынская летопись» (XVII в.) и нескольких византийских переводных хроник. Скорее всего, это связано с незначительным влиянием эпизода на исторический процесс, по мнению авторов-летописцев.
В свою очередь, этот эпизод сохранился в: «Палее толковой» (XIII в.) [2, с. 145-148], «Летописце Еллинском и Римском» (XV в.) [6, с. 5-6], «Креховской палее» (XV-XVI) [7, с. 65-67], «Лицевом летописном своде» Ивана Грозного (XVI в.) [9, с. 32], «Слове святого отца Мефодия Патарского» (XVI-XVII в.) [4, с. 400-403].
Напомним, что наш эпизод заключается в безвозвратном вылете ворона из ковчега, падальничестве и проклятии его Ноем, так же, в некоторых версиях, благословении голубя за то, что тот приносит благую весть.
В свою очередь, этот эпизод сохранился в: «Палее толковой» (XIII в.) [2, с. 145-148], «Летописце Еллинском и Римском» (XV в.) [6, с. 5-6], «Креховской палее» (XV-XVI) [7, с. 65-67], «Лицевом летописном своде» Ивана Грозного (XVI в.) [9, с. 32], «Слове святого отца Мефодия Патарского» (XVI-XVII в.) [4, с. 400-403].
Напомним, что наш эпизод заключается в безвозвратном вылете ворона из ковчега, падальничестве и проклятии его Ноем, так же, в некоторых версиях, благословении голубя за то, что тот приносит благую весть.
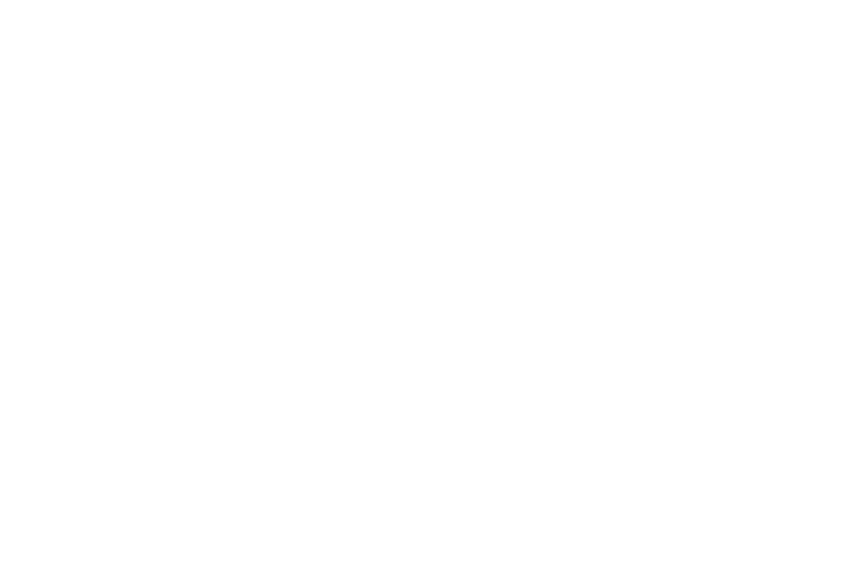
Ворон вылетает из Ковчега. Миниатюра Лицевого летописного свода, XVI в.
Сначала необходимо познакомиться с изобразительным источником по этому сюжету – одной из миниатюр «Лицевого летописного свода» (далее – ЛЛС), иллюстрирующей историю всемирного потопа. В данной летописи рукописный канонический текст существенно дополнен миниатюрой с апокрифом о вороне, набрасывающимся на свою тонущую/утонувшую жертву. ЛЛС на своём примере ярко подчёркивает, как словесная информация может отличаться от изобразительной и свидетельствует о знакомстве иллюстратора с апокрифом, и живости подобного представления как такового.
Далее, в ходе исследования эпизода в «Толковой» [2] и «Крёховской» Палеях [7], было обнаружено, что авторы подошли к древнеиудейскому апокрифу по-своему оригинально: стереотипы о вороне были переплетены с представлениями об иудеях. Так, Ной выступает в роли Господа, «жидове» - в образе ворона. Как Ной сохранил от воды ворона, так Бог сохранил иудеев от фараона. Как Ной кормил ворона в ковчеге, так Бог кормил манной, ходящих по пустыне. Как ворон отвернулся от Ноя, так и иудеи отвергли Сына Божия перед лицом Пилата. Как ворон выклёвывал глаза тонущих, так и иудеи избивали пророков. Как чёрен ворон, так и иудеи, уподобившись демону, почернели. Как ворон был проклят Ноем, так и кровь Сына Божия лежит на иудеях.
Автор «Толковой палеи» крайне тенденциозен по отношению к иудеям, но при этом обладает прекрасным образованием и является хорошим полемистом. Так, весь трактат изобилует различного рода антииудейскими нотками. В историографии вместе с вопросом датировки, открыт вопрос причины написания столь жёсткого полемического произведения [2, с. 620-622]. Естественно, оба вопроса взаимосвязаны. Есть предположения, что Палея написана в XI в. и причина острополемических выпадов против иудеев – напряжённые отношения с остатками от Хазарского каганата. Другая версия относит источник к XIII в. и обусловлена распространением мессианских настроений среди евреев в Польше. Третья версия связывается с деятельностью движения «жидовствующих» в XV в. Однако, как бы то ни было, орудием против иудеев послужил образ «предательской» птицы, что, в нашем случае, является уникальным синкретизмом для потопного сюжета, сравнительно с другими источниками.
Таким образом, подводя итог работы, повторим, что эпизод с вороном в контексте всемирного потопа – древний и широко распространённый; динамичность данного сюжета не могла позволить законсервировать подобную легенду. Сначала ворон был «благим вестником» у шумеров, затем стал «нечистой» птицей у иудеев, к образу которой приписалось апокрифическое сказание, сделавшее из ворона трупоеда. После исследования пути распространения легенды и определения локальных интерпетаций, перешли к ключевой теме – образу Ноевого ворона в русской описательной традиции. Было определено, что для русских летописцев особой семантической привязки за образом ворона не наблюдалось; мы показали, как иудейский апокриф вжился в русскую культуру и сопровождал вполне канонические пересказы ветхозаветной истории на примере ЛЛС. А также обнаружили, как образ ворона оригинально использовался в качестве орудия против иудеев в тенденциозном трактате «Толковая палея».
Потенциальным продолжением научной работы может быть расширение темы и круга исследуемых источников; более глубокое исследование возможных причин, породивших антииудейский характер «Толковой палеи».

Ворон в водах Всемирного Потопа. Христианская топография, XVI в.
[1] Дьяконов И.М. / Перевод с аккадского - Эпос о Гильгамеше («О все видавшем») — М.—Л.: Издательство Академии наук СССР, 1961. — 221 с.
[2] Кожинов В.В. / Книга бытия небеси и земли // Палея Толковая. М.: Согласие, 2002. С. 648.
[3] Острожская Библия / перевод с церк.-слав., Ольга Чернятевич [электронный ресурс] — Режим доступа (16.12.2017):http://www.vechnoe.info/bible/ru/gen/8
[4] Смольникова Л.Н. – Перевод текста приводится по рукописи РГАДА, собрание МИД. № 341 (721) из сборника XVI-XVII вв. Л. 393-426. – Режим доступа (16.12.2017): http://www.staropomor.ru/posl.vrem%285%29/patarskij.html
[5] Творенія святаго отца нашего Іоанна Златоуста – СПб., 1898. –Т.4. – С. 926.
[6] Творогов О.В. / Летописец Еллинский и Римский. Т. 1. Текст (СПБ., 1999) – С. 530.
[7] Франко І.Я. Апокрифи і леґенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. – Т. І: Апокрифи старозавітні: Репринт видання 1896 року / Передмова Ярослави Мельник; Львівський національний університет ім. І. Франка, Інститут франкознавства. – Львів, 2006. – 512 с.
[8] Фрэзер Дж.Дж. Фольклор в Ветхом Завете. — М.: Политиздат, 1990. — (Библиотека атеистической литературы) — С. 542.
[9] Приложение №1 – [электронный ресурс] – Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI в. – Режим доступа (16.12.2017): http://www.akteon-elib.ru/LITsIeVOI-LIeTOPISNYI-SVOD-Bibleiskaya-istoriya-Kniga-1/#32.
* Автор выражает признательность за консультации и критику магистру истории П.А. Майбороде, а также В.И. Водько - аспиранту исторического факультета ОНУ им. Мечникова.
[2] Кожинов В.В. / Книга бытия небеси и земли // Палея Толковая. М.: Согласие, 2002. С. 648.
[3] Острожская Библия / перевод с церк.-слав., Ольга Чернятевич [электронный ресурс] — Режим доступа (16.12.2017):http://www.vechnoe.info/bible/ru/gen/8
[4] Смольникова Л.Н. – Перевод текста приводится по рукописи РГАДА, собрание МИД. № 341 (721) из сборника XVI-XVII вв. Л. 393-426. – Режим доступа (16.12.2017): http://www.staropomor.ru/posl.vrem%285%29/patarskij.html
[5] Творенія святаго отца нашего Іоанна Златоуста – СПб., 1898. –Т.4. – С. 926.
[6] Творогов О.В. / Летописец Еллинский и Римский. Т. 1. Текст (СПБ., 1999) – С. 530.
[7] Франко І.Я. Апокрифи і леґенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. – Т. І: Апокрифи старозавітні: Репринт видання 1896 року / Передмова Ярослави Мельник; Львівський національний університет ім. І. Франка, Інститут франкознавства. – Львів, 2006. – 512 с.
[8] Фрэзер Дж.Дж. Фольклор в Ветхом Завете. — М.: Политиздат, 1990. — (Библиотека атеистической литературы) — С. 542.
[9] Приложение №1 – [электронный ресурс] – Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI в. – Режим доступа (16.12.2017): http://www.akteon-elib.ru/LITsIeVOI-LIeTOPISNYI-SVOD-Bibleiskaya-istoriya-Kniga-1/#32.
* Автор выражает признательность за консультации и критику магистру истории П.А. Майбороде, а также В.И. Водько - аспиранту исторического факультета ОНУ им. Мечникова.
янваРЬ2018
СВЯТОЙ АНТОНИЙ И КЕНТАВР
Полещук Д.В.
Аспирант Русского Музея. Ведущий специалист Комитета по государственному контролю,
охране и использованию памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.
г. Санкт-Петербург.
Аспирант Русского Музея. Ведущий специалист Комитета по государственному контролю,
охране и использованию памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.
г. Санкт-Петербург.
Оригинальность восприятия произведений искусства в средневековую эпоху, в отличии от современности, во многом определялась сферой его бытования и степенью распространения. Так, основными пространствами или медиа средневекового искусства были храм, его убранство в виде монументального и «станкового» искусства, последнее – это иконы, шитье, утварь. Книжная иллюстрация была особым пространством, имея свои специфические условия перцепции. Сравнивая с современной гипервизуальной культурой ситуацию того веками отдаленного от нас времени, нужно помнить, что тогда существовало значительно меньше возможностей наблюдать произведения искусства, как, впрочем, и любые другие изображения. В этом смысле, не будет преувеличением предполагать, что тем самым каждая подобная ситуация носила повышенный семантический уровень восприятия.
Наряду с литургическим, моленным характером, например, росписей церквей, многие из них носили откровенно дидактический и просвещенческий смысл. Наличие огромного числа сюжетных сцен во фресковых ансамблях наглядным образом вводило священную историю в образное мышление средневекового человека. Таким образом, он образно мыслил и представлял священных персонажей по достаточно устойчивым иконографическим приметам, будь то нимб, жест, поза, цвет одежд или характерные черты лица. В более широком аспекте, христианское искусство, как известно, выработало хорошо узнаваемые комбинации повествовательных сцен. Многие изображаемые события – например, такие, где человек средних лет показан фронтально, почти обнажен, в водном потоке реки, с парящим голубем над головой, с рядом стоящим персонажем, по возрасту чуть старше, с острыми чертами лица, с жестом руки над головой первого персонажа – повторялись из образа в образ и неизменно они, благодаря надписям, идентифицировались как «Крещение Господне» или «Богоявление».
На таком фоне появление изображений, связанных не с генеральной линией священной истории, а с историей самого христианства, требовало особых иконографических усилий для возможно более точной идентификации представленных персонажей. Как нетрудно догадаться, максимально ясным такое изображение, как сцена из жития святого, могло восприниматься в составе рукописи, иллюстрирующей жизнь того или иного подвижника. Однако появление в храме сюжетов из жития святого могло затруднять узнавание, но при этом еще сильнее активизировать прочтение изображенного как визуально, так и вербально. Последнее несет особый интерес: читались номинативные надписи, сообщающие, что представлено на фреске, читалось, проговариваясь и само изображение, в прямом смысле. Ведь и сейчас, если сюжет на картине не узнаваем сразу, наше мышление начинает будто раскладывать по полкам, по местам увиденное – словом, мы пересказываем (неважно про себя или устно) изображение. В составе храмовой декорации с присутствием не одного, а целого цикла изображений, по крайней мере повествовательная часть сюжетов неизменно должна была восприниматься таким образом.
Наряду с литургическим, моленным характером, например, росписей церквей, многие из них носили откровенно дидактический и просвещенческий смысл. Наличие огромного числа сюжетных сцен во фресковых ансамблях наглядным образом вводило священную историю в образное мышление средневекового человека. Таким образом, он образно мыслил и представлял священных персонажей по достаточно устойчивым иконографическим приметам, будь то нимб, жест, поза, цвет одежд или характерные черты лица. В более широком аспекте, христианское искусство, как известно, выработало хорошо узнаваемые комбинации повествовательных сцен. Многие изображаемые события – например, такие, где человек средних лет показан фронтально, почти обнажен, в водном потоке реки, с парящим голубем над головой, с рядом стоящим персонажем, по возрасту чуть старше, с острыми чертами лица, с жестом руки над головой первого персонажа – повторялись из образа в образ и неизменно они, благодаря надписям, идентифицировались как «Крещение Господне» или «Богоявление».
На таком фоне появление изображений, связанных не с генеральной линией священной истории, а с историей самого христианства, требовало особых иконографических усилий для возможно более точной идентификации представленных персонажей. Как нетрудно догадаться, максимально ясным такое изображение, как сцена из жития святого, могло восприниматься в составе рукописи, иллюстрирующей жизнь того или иного подвижника. Однако появление в храме сюжетов из жития святого могло затруднять узнавание, но при этом еще сильнее активизировать прочтение изображенного как визуально, так и вербально. Последнее несет особый интерес: читались номинативные надписи, сообщающие, что представлено на фреске, читалось, проговариваясь и само изображение, в прямом смысле. Ведь и сейчас, если сюжет на картине не узнаваем сразу, наше мышление начинает будто раскладывать по полкам, по местам увиденное – словом, мы пересказываем (неважно про себя или устно) изображение. В составе храмовой декорации с присутствием не одного, а целого цикла изображений, по крайней мере повествовательная часть сюжетов неизменно должна была восприниматься таким образом.
В подобном контексте роспись Спасо-Преображенской церкви Евфросиньева монастыря в Полоцке, созданная около 1161 г., представляет исключительный интерес. Фресковый ансамбль храма является самым древним в искусстве средневековой Руси с точки зрения сочетания основного догматического или литургического цикла росписи с уникальным и редко встречающимся составом сюжетов, выбранных по индивидуальной программе ктитора храма инокини Евфросинии, происходящей из полоцкой княжеской семьи [1] .
Здесь необходимо напомнить, что основные поверхности стен храма и сводов основного подкупольного пространства и помещений алтаря имеют более или менее устойчивую схему сюжетов росписи, сложившуюся в постиконоборческий период. В куполе обычно изображается Христос Пантократор, однако для ряда русских храмов XII в. в том числе и полоцкой церкви в этом месте было свойственно помещать композицию «Вознесение».
Здесь необходимо напомнить, что основные поверхности стен храма и сводов основного подкупольного пространства и помещений алтаря имеют более или менее устойчивую схему сюжетов росписи, сложившуюся в постиконоборческий период. В куполе обычно изображается Христос Пантократор, однако для ряда русских храмов XII в. в том числе и полоцкой церкви в этом месте было свойственно помещать композицию «Вознесение».

Спасская церковь Евфросиньева монастыря. 1161 г. Изображение святых-монахов на столпах и стенах Спасской церкви.
В барабане купола представлены пророки, в парусах – евангелисты; на предалтарных столбах – «Благовещение». Декорация апсиды, то есть уже алтарного пространства, могла варьироваться, но ведущие композиции домонгольского искусства, берущие начало столетием ранее в Софии Киевской, характерны и здесь – Богоматерь Оранта в конхе, а регистром ниже – «Евхаристия» или Причащение апостолов. На стенах рукавов подкупольного креста в полоцком храме на северной и южной стороне по принципу символического соответствия представлены – «Распятие» и «Воскресение-Сошествие во ад», в среднем регистре – «Вход Господень в Иерусалим» и «Воскрешение Лазаря», нижний уровень занимают сцены «Успение Богоматери» и «Рождество Христово». Фресковая декорация полоцкой церкви следовала принципам закрепленного традицией местоположения росписей в наиболее важных, просматриваемых, семантически ответственных, символически отмеченных пространствах основного объема храма.
Но роспись храмов могла, помимо основного набора композиций, иметь и такой, который ранее не встречался или появлялся редко. Кроме того, росписи монастырских храмов по своей функции могли содержать малораспространенные сюжеты или вообще иметь дополнительную к основной иконографическую программу. Так, росписи восьмигранных столпов полоцкой церкви несут изображения монахов, преподобных отцов. Вместе с тем, монашеская тема в росписях многих монастырских соборов домонгольского времени стала весьма распространенной [2] . Поэтому, с одной стороны, нет ничего удивительного в нижней зоне стен и в западной части под хорами полоцкого храма видеть редко встречающиеся сюжеты или неповторяющиеся вообще; напротив, с другой стороны, удивляет как раз этот набор сюжетов, их сугубо книжный характер.
Но роспись храмов могла, помимо основного набора композиций, иметь и такой, который ранее не встречался или появлялся редко. Кроме того, росписи монастырских храмов по своей функции могли содержать малораспространенные сюжеты или вообще иметь дополнительную к основной иконографическую программу. Так, росписи восьмигранных столпов полоцкой церкви несут изображения монахов, преподобных отцов. Вместе с тем, монашеская тема в росписях многих монастырских соборов домонгольского времени стала весьма распространенной [2] . Поэтому, с одной стороны, нет ничего удивительного в нижней зоне стен и в западной части под хорами полоцкого храма видеть редко встречающиеся сюжеты или неповторяющиеся вообще; напротив, с другой стороны, удивляет как раз этот набор сюжетов, их сугубо книжный характер.
Здесь перечислим только некоторые композиции, для того, чтобы затем обратиться к одной, наиболее примечательной для русского средневекового искусства. В пространстве алтаря представлены очень редко встречающиеся сюжеты – «Чудо св. Афиногена с отроком»; чудо Дионисия Ареопагита, изображенного несущим свою усеченную голову; «Мучение св. Павла Исповедника», где святой изображен с омофором, которым был задушен. В нижней части на южной и северной стенах в основном пространстве храма, обрамляя акросолии, представлена композиция «Источники Премудрости святых Отцов» в двух вариантах: «Видение Прокла» и сцена видения Григорием Богословом апостола Иоанна. На арочных сводах южного нефа изображены две сцены сюжета о чуде Св. Мартирия, одна из которых повествует о том, как святой, сжалившись над прокаженным, в своем плаще на спине понес его до обители, но затем оказалось, что он нес Христа.
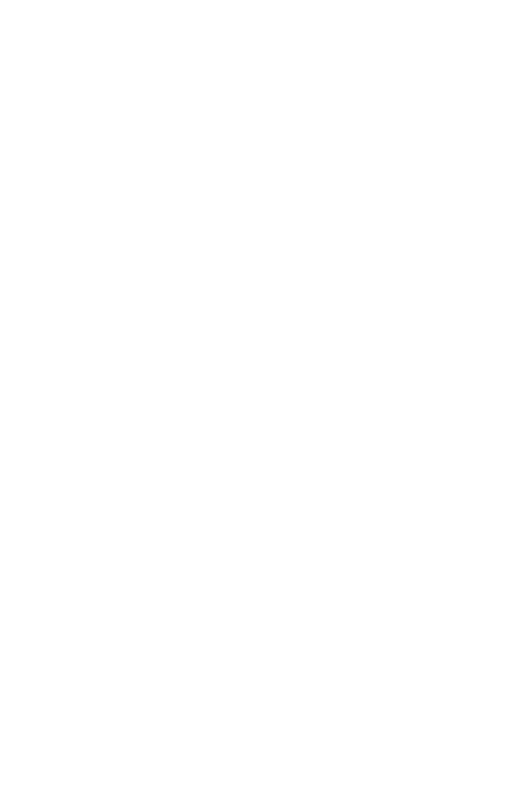
«Чудо св. Афиногена с отроком» - фрагмент росписи алтаря Спасской церкви. Ок. 1161 г.
Под хорами в южном объеме над акросолием помещена сцена с Герасимом Иорданским, исцеляющим льва. Кроме названных, присутствует еще ряд уникальных сюжетов на мартирологическую тему, редких или единичных для искусства Древней Руси [3] .
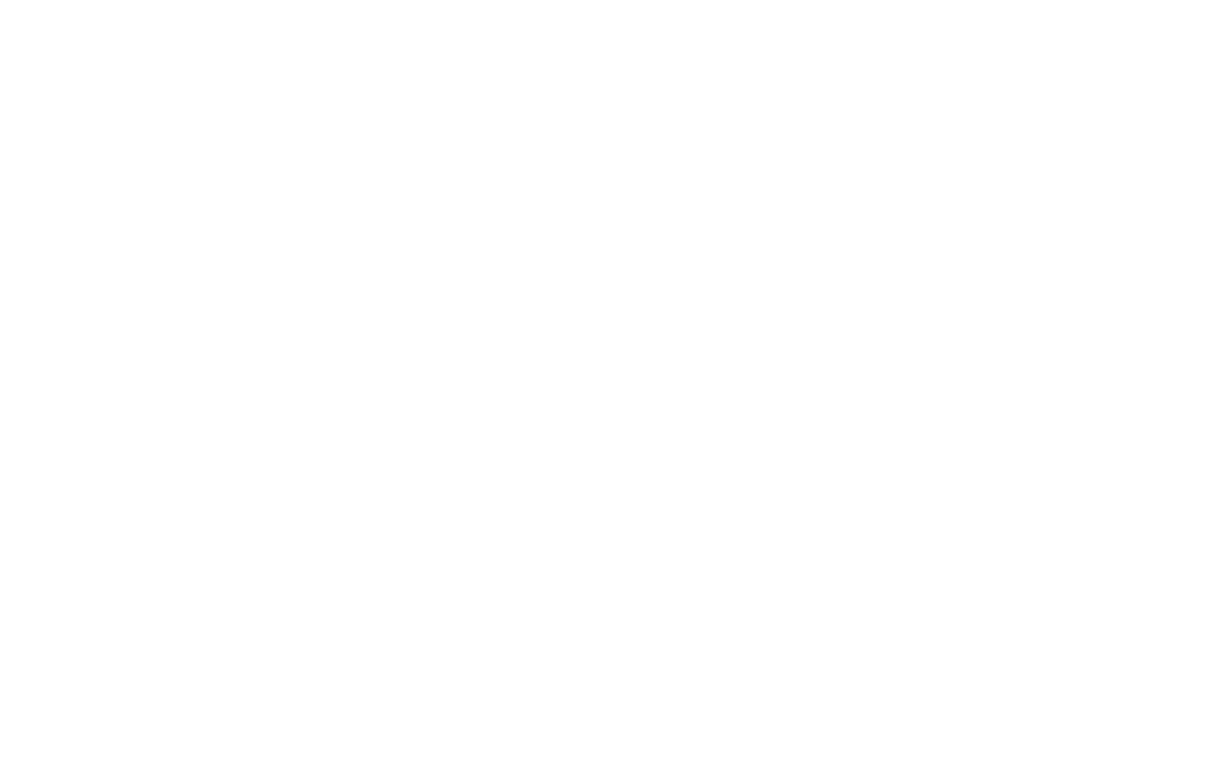
«Герасим Иорданский исцеляет льва» - фреска под хорами в южном объеме Спасской церкви. Ок. 1161 г.
Такое разнообразие в выборе сюжетов для дополнительной программы росписей обычно связывают с сильным греческим влиянием в Полоцке [4] , в котором Евфросиния играла одну из решающих ролей. Проходя послушание, будучи постриженной в инокини, она занимается перепиской книг в Софийском соборе, библиотека которого как раз в первой половине XII в. была пополнена немалым количеством греческих манускриптов. Наряду с расширением библиотеки, в связи со ссылкой дядей и отца Ефросинии в Византию, а потом их возвращением, в Полоцк приезжают и каменных дел мастера. Считается, что именно заслугам образованной княжны-инокини Евфросинии принадлежит основание двух монастырей и в частности женского со строительством каменного храма во имя Всемилостивого Спаса.
Тем самым, выбор редких сюжетов становится более понятным. Наряду с этим, иногда возникает впечатление, что наличие немалого количества впервые на Руси встречающихся изображений, даже при наличии идентифицирующих надписей, носило не просто уникальный характер, а прежде всего личный, будто созданный для одного зрителя – самой Евфросинии, которая по своему интеллектуальному капризу заполняет стены храма такими сюжетами, понимать и читать которые могла только она в силу своей выдающейся образованности. Мне кажется, если не абсолютизировать данное положение, оно во многом могло иметь место быть. Другое дело, что роспись принадлежит монастырскому храму, в котором, как и в любом другом монастыре, книжная премудрость всегда являлась добродетелью, и, следовательно, изображаемые сюжеты могли быть распознанными.
Для нас представляет интерес одно изображение – сцена встречи св. Антония и кентавра. Она входит в небольшой цикл, повествующий о двух раннехристианских отшельниках, основателей монашеского пустынножительства свв. Антонии, прозванным Великим и Павле Фивейском. Кроме указанной сцены, на малых сводах в западной части храма в северном нефе под хорами определяют еще два сюжета – беседа свв. Антония и Павла и Успение Павла. Об истории встречи с кентавром в житии св. Антония, написанном св. Афанасием Александринским в IV в., еще ничего неизвестно. Эпизод этот включен в житие Блаженным Иеронимом, что характерно для латинского богослова и писателя. В X в. Симеон Метафраст, перелагая для своего свода жития святых, оставляет этот явно литературный топос в своем тексте, что также примечательно и неудивительно для византийской литературы, активно пользовавшейся античными образами, которые вполне сохраняли свое содержание, но не редко интерпретировались и имели аллегорическое значение.
Тем самым, выбор редких сюжетов становится более понятным. Наряду с этим, иногда возникает впечатление, что наличие немалого количества впервые на Руси встречающихся изображений, даже при наличии идентифицирующих надписей, носило не просто уникальный характер, а прежде всего личный, будто созданный для одного зрителя – самой Евфросинии, которая по своему интеллектуальному капризу заполняет стены храма такими сюжетами, понимать и читать которые могла только она в силу своей выдающейся образованности. Мне кажется, если не абсолютизировать данное положение, оно во многом могло иметь место быть. Другое дело, что роспись принадлежит монастырскому храму, в котором, как и в любом другом монастыре, книжная премудрость всегда являлась добродетелью, и, следовательно, изображаемые сюжеты могли быть распознанными.
Для нас представляет интерес одно изображение – сцена встречи св. Антония и кентавра. Она входит в небольшой цикл, повествующий о двух раннехристианских отшельниках, основателей монашеского пустынножительства свв. Антонии, прозванным Великим и Павле Фивейском. Кроме указанной сцены, на малых сводах в западной части храма в северном нефе под хорами определяют еще два сюжета – беседа свв. Антония и Павла и Успение Павла. Об истории встречи с кентавром в житии св. Антония, написанном св. Афанасием Александринским в IV в., еще ничего неизвестно. Эпизод этот включен в житие Блаженным Иеронимом, что характерно для латинского богослова и писателя. В X в. Симеон Метафраст, перелагая для своего свода жития святых, оставляет этот явно литературный топос в своем тексте, что также примечательно и неудивительно для византийской литературы, активно пользовавшейся античными образами, которые вполне сохраняли свое содержание, но не редко интерпретировались и имели аллегорическое значение.
Ктиторская композиция на хорах храма. Нач. XIII в.
«Св. Антоний и кентавр». Склон свода в западной части Спасской церкви. Ок. 1161 г.
Сцена с кентавром, которого на своем пути встречает Антоний в поисках другого выдающегося отшельника Павла Фивейского, представляет собой двухфигурную композицию. Антоний изображен в легком трехчетвертном развороте вправо с риторическим жестом руки, обращенной к кентавру, который обернулся к нему с таким же жестом и будто указывает направление пути, что согласуется с житием, в котором воспроизводится типологически древний топос, согласно которому путешествующему герою на его пути встречаются разные чудесные существа, иногда готовые помочь. Так, согласно житию, до встречи с кентавром Антонию повстречался сатир, а после кентавра и львица.
Думается, не следует исключительно категорично интерпретировать встречу христианского святого с героями античного искусства, как столкновение с язычеством и его преодоление, что подразумевает прежде всего отрицание. Здесь скорее вовлечение языческого персонажа в христианский мир. Кентавры и сатиры при этом, особенно в тексте жития – это аллегории, нечто вроде литературного приема. В их образах сохранена античная топика, одновременно, это такие герои, которые несут «эффект реальности». Эти персонажи существуют в гармоничном мире, не расколотом непроходимым водоразделом между прежде существовавшим миром и тем, в который пришел Спаситель, принесший обновление, в том числе для сатиров с кентаврами, которые понимают новые ценности, и легко, как в житии св. Антония, указывают верный путь к другому христианскому подвижнику. Кроме того, по житию кентавр является только лишь помощником, потому что вместе с его «христианизацией» произошло и снижение образа-прототипа, ведь сейчас он уже не дает мудрый совет, а лишь отвечает на вопрос, оказываясь не более чем проводником. При этом, тут важно отказаться от очевидного вульгаризма в духе, что «теперь-то даже сатиры и кентавры славят Господа».
Снижается в тексте христианского жития довольно распространенный образ античной мифологии, в которой наряду с враждебным характером кентавров, присутствуют персонажи, как раз наделенные мудростью. В героических мифах некоторые из кентавров являются воспитателями героев, например, Ясона и Ахилла. Особое место среди кентавров занимают два – Хирон и Фол, воплощающие мудрость и благожелательность. В качестве примера стоит напомнить знаменитую фреску из Геркуланума с изображением Хирона, обучающего играть на лире Ахилла. Интересным представляется иллюминированный лист ранневизантийской рукописи первой половины VI в., так называемый Венский Диоскорид, посвященный лекарственным веществам. Одна из миниатюр изображает группу Хирона, передающего священное знание знаменитым античным врачам. Как известно, одним из учеников этого античного кентавра был легендарный бог-врач Асклепий.
Думается, не следует исключительно категорично интерпретировать встречу христианского святого с героями античного искусства, как столкновение с язычеством и его преодоление, что подразумевает прежде всего отрицание. Здесь скорее вовлечение языческого персонажа в христианский мир. Кентавры и сатиры при этом, особенно в тексте жития – это аллегории, нечто вроде литературного приема. В их образах сохранена античная топика, одновременно, это такие герои, которые несут «эффект реальности». Эти персонажи существуют в гармоничном мире, не расколотом непроходимым водоразделом между прежде существовавшим миром и тем, в который пришел Спаситель, принесший обновление, в том числе для сатиров с кентаврами, которые понимают новые ценности, и легко, как в житии св. Антония, указывают верный путь к другому христианскому подвижнику. Кроме того, по житию кентавр является только лишь помощником, потому что вместе с его «христианизацией» произошло и снижение образа-прототипа, ведь сейчас он уже не дает мудрый совет, а лишь отвечает на вопрос, оказываясь не более чем проводником. При этом, тут важно отказаться от очевидного вульгаризма в духе, что «теперь-то даже сатиры и кентавры славят Господа».
Снижается в тексте христианского жития довольно распространенный образ античной мифологии, в которой наряду с враждебным характером кентавров, присутствуют персонажи, как раз наделенные мудростью. В героических мифах некоторые из кентавров являются воспитателями героев, например, Ясона и Ахилла. Особое место среди кентавров занимают два – Хирон и Фол, воплощающие мудрость и благожелательность. В качестве примера стоит напомнить знаменитую фреску из Геркуланума с изображением Хирона, обучающего играть на лире Ахилла. Интересным представляется иллюминированный лист ранневизантийской рукописи первой половины VI в., так называемый Венский Диоскорид, посвященный лекарственным веществам. Одна из миниатюр изображает группу Хирона, передающего священное знание знаменитым античным врачам. Как известно, одним из учеников этого античного кентавра был легендарный бог-врач Асклепий.
Фреска из Геркуланума. Национальный музей археологии в Неаполе. Италия.
Миниатюра Венского Диоскорида. Австрийская национальная библиотека. Вена.
По крайней мере, такой смысл извлекается из жития, в контексте росписи полоцкого храма и самой фрески заметим следующее.
Одним из важных композиционных аспектов сцены св. Антония и кентавра является мотив движения, иллюстрирующий тему пути. Святой Антоний показан именно в движении. Путь понимается как переходное состояние: это уже не начало, но и не конец. Фигура кентавра дополняет подобное смысловое поле. Ведь кентавр это «половинчатое» существо – он получеловек, полузверь. Таким образом возникает семантика незавершенности, хотя сами персонажи вполне ясны и окончательны в своем существовании, но изображенная форма их бытия показывает движение, путь. Вероятно, такое значение оказывается очень созвучным, духовному настроению как самой заказчицы росписи, так и всем монашествующим, выбравшим иноческий подвиг своим уделом.
Однако, что вполне аллегорическим казалось византийскому читателю и зрителю, наблюдавшего античного персонажа, где была сформирована устойчивая традиция символизма на основе античных образов, то не таким это виделось пусть даже и читающим в монастыре инокиням – о чем, правда, у нас нет никаких свидетельств. Ведь при всем разнообразии имеющейся в монастыре литературы, она скорее могла быть вкладом в эрудицию некоторых читателей, а не интеллектуализма, который вполне возможно, имела только одна заказчица росписи. Тем самым в сюжеты искусства Древней Руси вносился образ кентавра, который мог быть не только не прочитан, но неправильно понят и растиражирован в дальнейшем с совершенно иным содержанием, что, однако, с ним, не произошло. Интересно, что на сегодняшний день в раскрытых и сохранившихся древнерусских монументальных ансамблях подобной сцены не выявлено, что не покажется странным, если учесть, что фреска с кентавром, хоть и украшала полоцкий храм, но всё же оставалась вариантом элитарного византийского искусства; в среде продвинутых ее представителей никакого такие образы не смущали, но ведь и на Руси они существуют, особенно в рассматриваемый период. [5]
Одним из важных композиционных аспектов сцены св. Антония и кентавра является мотив движения, иллюстрирующий тему пути. Святой Антоний показан именно в движении. Путь понимается как переходное состояние: это уже не начало, но и не конец. Фигура кентавра дополняет подобное смысловое поле. Ведь кентавр это «половинчатое» существо – он получеловек, полузверь. Таким образом возникает семантика незавершенности, хотя сами персонажи вполне ясны и окончательны в своем существовании, но изображенная форма их бытия показывает движение, путь. Вероятно, такое значение оказывается очень созвучным, духовному настроению как самой заказчицы росписи, так и всем монашествующим, выбравшим иноческий подвиг своим уделом.
Однако, что вполне аллегорическим казалось византийскому читателю и зрителю, наблюдавшего античного персонажа, где была сформирована устойчивая традиция символизма на основе античных образов, то не таким это виделось пусть даже и читающим в монастыре инокиням – о чем, правда, у нас нет никаких свидетельств. Ведь при всем разнообразии имеющейся в монастыре литературы, она скорее могла быть вкладом в эрудицию некоторых читателей, а не интеллектуализма, который вполне возможно, имела только одна заказчица росписи. Тем самым в сюжеты искусства Древней Руси вносился образ кентавра, который мог быть не только не прочитан, но неправильно понят и растиражирован в дальнейшем с совершенно иным содержанием, что, однако, с ним, не произошло. Интересно, что на сегодняшний день в раскрытых и сохранившихся древнерусских монументальных ансамблях подобной сцены не выявлено, что не покажется странным, если учесть, что фреска с кентавром, хоть и украшала полоцкий храм, но всё же оставалась вариантом элитарного византийского искусства; в среде продвинутых ее представителей никакого такие образы не смущали, но ведь и на Руси они существуют, особенно в рассматриваемый период. [5]
Поэтому, очень заманчиво в этой связи говорить об особой монастырской культуре, складывавшейся на Руси, а затем значительно изменившейся к новому ее расцвету в конце XIV – начале XV вв. На это стоит, по-видимому, обратить внимание, так как о книжной монастырской культуре домонгольского времени мы знаем значительно больше, например, хотя бы по Киево-Печерскому патерику, но можем только гадать о росписях церквей знаменитой киевской обители, созданной самими монахами. Ведь существовала традиция «отних» монастырей, основанных правящими князьями или членами их семей. Полоцкий храм отличает только княжеское происхождение и культурные связи Евфросинии, в остальном, если исходить из иконографии сюжетов, это свидетельство вклада монашествующего лица, обладающего высокой книжной культурой. Но в ином ракурсе – образы полоцкой церкви и наш кентавр находят себе место в общем потоке домонгольского искусства, не зависимо от того, где подобные образы обнаруживаются в княжеском или монастырском храме. Достаточно, только сослаться на скульптуру Владимиро-Суздальской земли.
Так, с другой иконографической традицией связаны белокаменные рельефные кентавры в оформлении фасадов Дмитриевского собора во Владимире (1194 г.) и Георгиевского в Юрьеве-Польском (1234 г.). Как и прочие звериные мотивы в пластике этих уникальных памятников русского искусства, они носят эмблематический характер, переданный декоративными способами, симметричной композицией, плоскостным решением. Эти кентавры не изображают сюжет какой-то литературной истории, как кентавр из жития св. Антония – они скорее аллегории, источник которых, безусловно, имел книжное происхождение. [6]
Так, с другой иконографической традицией связаны белокаменные рельефные кентавры в оформлении фасадов Дмитриевского собора во Владимире (1194 г.) и Георгиевского в Юрьеве-Польском (1234 г.). Как и прочие звериные мотивы в пластике этих уникальных памятников русского искусства, они носят эмблематический характер, переданный декоративными способами, симметричной композицией, плоскостным решением. Эти кентавры не изображают сюжет какой-то литературной истории, как кентавр из жития св. Антония – они скорее аллегории, источник которых, безусловно, имел книжное происхождение. [6]
Рельефы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском (1234 г.)
В связи с упоминанием владимиро-суздальских рельефов нельзя не указать на еще один пример «хождения» образа кентавра с пока еще мало понятной символикой, появившемся на изразцовом рельефе из оформления барабана купола псковской церкви св. Георгия со Взвоза (1494 г.). Здесь изображен кентавр с клинообразной бородой с шипованным кистенем в руке. У его хвоста две птицы, как будто терзающие кентавра своими клювами. Впереди - ставший на задние лапы и выставивший передние зверь. По сторонам от кентавра – две бородатых фигурки, кажущиеся, на современный взгляд, фантастическими, но явно антропоморфные существа. Нижняя часть представляет небольшой фриз из птиц и зверей, вписанных в окружность медальонов.
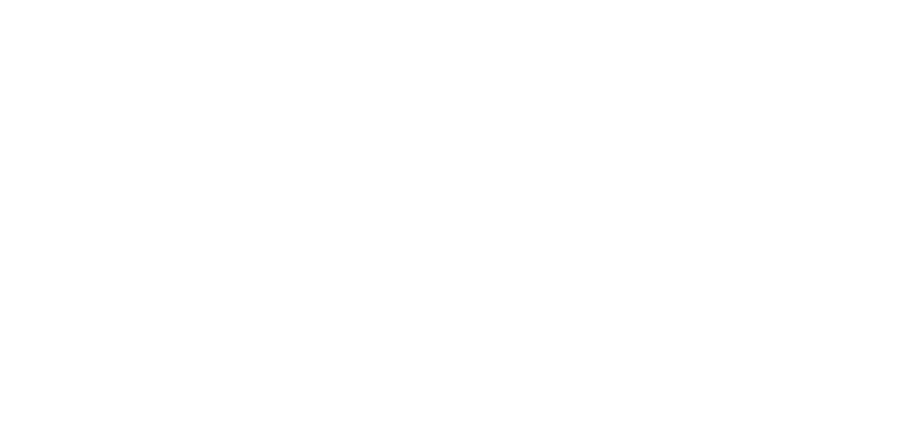
Рисунок с изразцового фриза церкви св. Георгия со Взвоза во Пскове (1494 г.)
В русской книжности и изобразительном искусстве не ранее первой половины XIV в. распространяется образ китовраса (от греч. κένταυρος — «кентавр»), получивший широкую популярность, связанный с легендой о Соломоне, в одном из вариантов которой он выступает как брат и сподвижник легендарного царя. Поэтому знаменитый крылатый китоврас, держащий Соломона в руках на одном из клейм Васильевских врат 1336 г. из Александровой слободы – это не тот кентавр, что в полоцкой фреске.
Возвращаясь к изображению кентавра на полоцкой фреске, не стоит полагать, что для зрителя XII в. в этом образе могло видеться что-либо демоническое. Для домонгольской древнерусской культуры очень характерно активное восприятие многих иконографических и орнаментальных мотивов в русле миграции художественных форм «звериного» стиля – например, тератологических композиций, элемента плетенки, которые были, пусть и со своими локальными особенностями, но «бродячими» мотивами искусства.
Возвращаясь к изображению кентавра на полоцкой фреске, не стоит полагать, что для зрителя XII в. в этом образе могло видеться что-либо демоническое. Для домонгольской древнерусской культуры очень характерно активное восприятие многих иконографических и орнаментальных мотивов в русле миграции художественных форм «звериного» стиля – например, тератологических композиций, элемента плетенки, которые были, пусть и со своими локальными особенностями, но «бродячими» мотивами искусства.
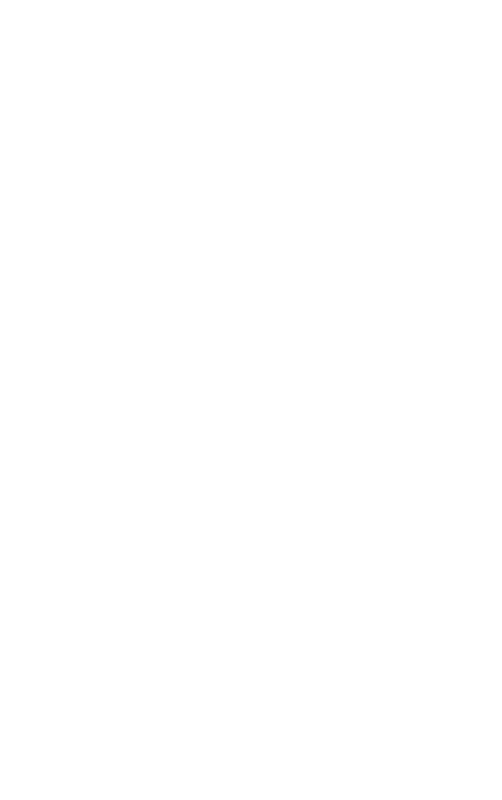
Клеймо Васильевских врат 1336 г. из Александровой слободы.
Поэтому заслуживают внимание примеры из ювелирного искусства с образами фантастических птиц или знаменитые змеевики и тому подобное, которые позволяют понять, что визуальная культура человека этого времени была наполнена различными образами в тех видах искусства, которые были менее зависимы от традиционных канонов. Иными словами, к моменту росписи собора в Полоцке многим современникам образ кентавра мог восприниматься из «класса» дивных зверей, но не более чем сирины в нимбах или грифоны на ювелирных украшениях, бывших не менее на виду, нежели росписи храма. При этом не важно, что многие из них носят генетическую связь с язычеством, как например, знаменитый браслет из Тверского клада, хранящийся ныне в Русском музее. Хотя нам и кажется исследовательской фантастикой называть изображенное на створках браслета русальными сценами, нас интересует образ, похожий на кентавра. Что он означал в контексте всей иконографии браслета – трудно сказать; важно помнить, что такой изобразительный мотив присутствовал вместе с другими странными существами. Следовательно, предположим, что малообоснованным будет считать образ кентавра каким-то из ряда вон выходящим событием при появлении его на фреске церкви монастыря, если принять во внимание, что заказчицей была Евфросиния, чей визуальный опыт, как и книжный, скорее всего, был достаточно большим; также как сомнительно видеть в нем нечто демоническое.
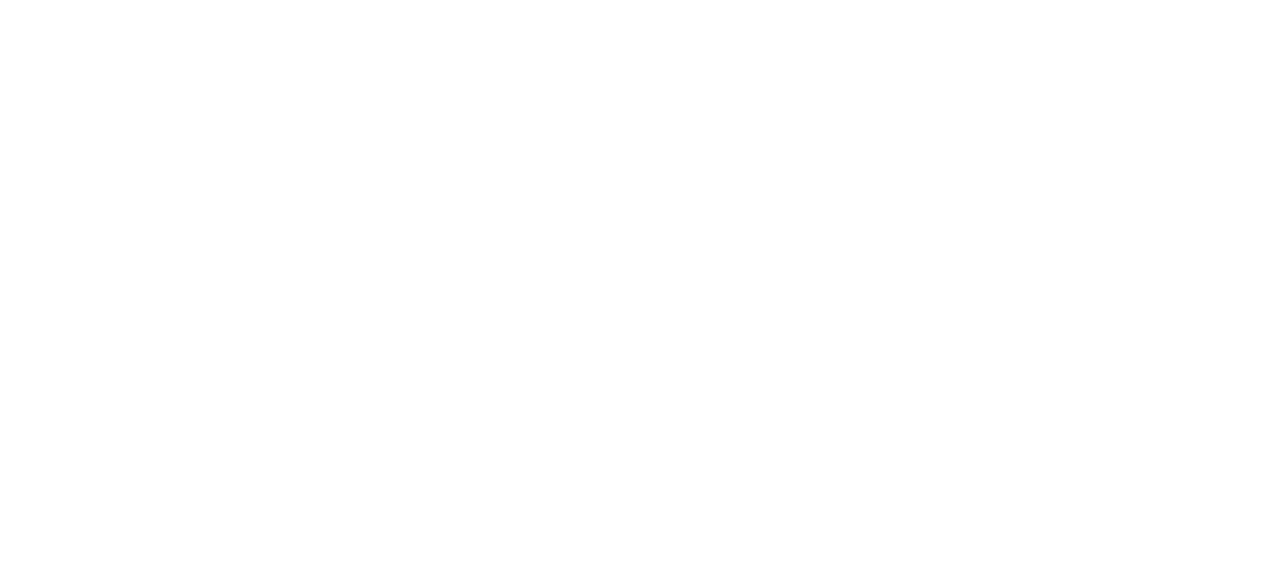
Браслет из Тверского клада. Вторая половина XII в. Государственный Русский Музей. Санкт-Петербург.
Думаю, что уникальный случай появления кентавра в иконографии росписи полоцкой церкви кроется в особенностях, во-первых, домонгольской культуры, активно пользовавшейся образами и сюжетами византийского искусства. Во-вторых, искусство постдомонгольского времени могли мало интересовать образы подобные эпизоду жития св. Антония. При этом рецепция византийского искусства продолжалась, но они больше не появляются в монументальном искусстве. Безусловно, мы имеем большие утраты фресковых циклов, что не позволяет абсолютизировать последнее положение. Однако только в XVII в. появляются сюжеты, ранее не встречающиеся, как в росписях ярославских церквей. И тут дело не только в иконографических новых образцах, в силу своей непривычности, привлекавших внимание русских мастеров. Как представляется, дело в большей открытости и проницаемости культуры этого времени разным художественным формам, несмотря на их неправославное происхождение. Типологически подобной была и домонгольская эпоха, открытая многим ветрам.
Напротив, культуре XIV-XV вв. требовались определенные усилия для возрождения после татарского нашествия, выразившиеся в развитии собственных традиций в искусстве. Византия и Балканские страны по-прежнему остаются источниками многих художественных форм этого времени, но выбор из них ведется уже на совершенно иных основаниях нежели в XI-XII вв. Так, на Руси создаются новые иконографические варианты, например, «Троица» Андрея Рублева. Именно здесь, хотя и благодаря
греческому мастеру, появляется композиция «Спас в силах» в составе деисусного чина иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля, что является важной иконографической новацией, отражающей общую духовную атмосферу рубежа XIV-XV вв. В XVI в. создаются иконы со сказанием чудес от икон Богоматери. Перечисленное – это только наиболее главные русские иконографические отличия от Византии и Балкан, поэтому можно говорить об особой работе с ведущими образами эпохи, ведь образ кентавра, в этом смысле, находился на периферии художественных интересов.
Вместе с тем, мы не хотим сказать, что в это время не появляются редкие сюжеты или изобразительные нарративы, подобные полоцкому циклу. Они есть, и это, например, сюжет об Анте скоморохе из Успенской церкви в с. Мелетово под Псковом (1465 г.). Но это такая редкость, которая не меняет общей тенденции, характеризующейся развитием национальных иконографических поисков.
Интересно, что в XV- XVII вв. кентавры не раз встречаются в книжной миниатюре, поскольку её иконография и в Европе, и на Руси была значительно либеральней, нежели «большого» искусства фрески или иконы. Это не касалось важных богослужебных книг, но различные сборники, как переводные Физиологи, Хронографы и даже Лицевой летописный свод такие образы имели. Их тексты были не только шире и разнообразней по содержанию, например, «Александрия», чем это требовалось для оформления церквей – здесь сами темы находились не исключительно в евангельской истории и не регулировались задачами репрезентации богословских идей как в «Спасе в силах» из Благовещенского собора Кремля.
греческому мастеру, появляется композиция «Спас в силах» в составе деисусного чина иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля, что является важной иконографической новацией, отражающей общую духовную атмосферу рубежа XIV-XV вв. В XVI в. создаются иконы со сказанием чудес от икон Богоматери. Перечисленное – это только наиболее главные русские иконографические отличия от Византии и Балкан, поэтому можно говорить об особой работе с ведущими образами эпохи, ведь образ кентавра, в этом смысле, находился на периферии художественных интересов.
Вместе с тем, мы не хотим сказать, что в это время не появляются редкие сюжеты или изобразительные нарративы, подобные полоцкому циклу. Они есть, и это, например, сюжет об Анте скоморохе из Успенской церкви в с. Мелетово под Псковом (1465 г.). Но это такая редкость, которая не меняет общей тенденции, характеризующейся развитием национальных иконографических поисков.
Интересно, что в XV- XVII вв. кентавры не раз встречаются в книжной миниатюре, поскольку её иконография и в Европе, и на Руси была значительно либеральней, нежели «большого» искусства фрески или иконы. Это не касалось важных богослужебных книг, но различные сборники, как переводные Физиологи, Хронографы и даже Лицевой летописный свод такие образы имели. Их тексты были не только шире и разнообразней по содержанию, например, «Александрия», чем это требовалось для оформления церквей – здесь сами темы находились не исключительно в евангельской истории и не регулировались задачами репрезентации богословских идей как в «Спасе в силах» из Благовещенского собора Кремля.
В заключение вспомним знаменитую греческую бронзовую группу VIII в. до н.э. из Метрополитен музея, где представлены человек и кентавр, основной смысл которой раскрывается во встрече мира людей с миром природы и их общем бытии. Встретив на своем пути кентавра, св. Антоний не бежит прочь, а просит помощи и получает верное указание пути к живой святости на земле, которую также искала и стяжала спустя много веков изобразившая эту сцену на стенах своего храма преподобная Евфросиния Полоцкая.
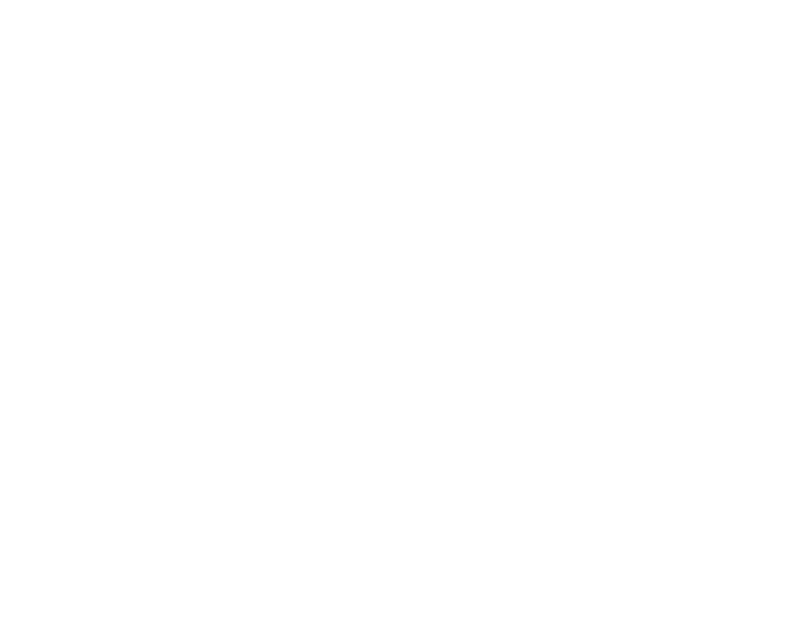
Бронзовая статуэтка. VIII в. до н.э. из Метрополитен музея. Нью-Йорк.
[1] Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенская церковь Евфросиньева монастыря и ее фрески. — М.: Северный паломник, 2009. О знаменитой ктиторской фреске с изображением Евфросиньи, подносящей Спасскую церковь см. Преображенский А.С. Ктиторские портреты средневековой Руси XI – начала XVI вв. М., 2010.
[2] Сарабьянов В.Д. Образ монашества в древнерусском искусстве XI – середины XII в. // ДРИ. Идея и образ. Опыты изучения византийского и древнерусского искусства. Материалы Международной научной конференции 1-2 ноября 2005 года. М., 2009. С. 161-194. Обратим внимание, что здесь исследователь называет сцену с кентавром «Искушением св. Антония», в дальнейших его публикациях этой ошибки уже нет.
[3] Более полный обзор и возможные интерпретации редких сюжетов в полоцкой церкви можно получить в работе Сарабьянов В. Д. Мир книжности во фресках Спасской церкви Евфросиньева монастыря и иконографический замысел преп. Евфросинии Полоцкой // Искусство христианского мира. Сб. статей. Вып. 12. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. — С. 135–163.
[4] Шалина И.А. Богоматерь Эфесская - Полоцкая - Корсунская - Торопецкая: Ист. имена и архетип чудотворной иконы // Чудотворная икона в Византии и Др. Руси. М., 1996. С. 200-251.
[5] Хороший обзор древнерусских изображений кентавра в различных видах искусства, и не только на домонгольский период, дан в статье - Чернецов А.В. Древнерусские изображения кентавра // Советская археология (СА), 1975, 2. С. 100-120.
[6] Обратим здесь внимание на старую работу В.П. Даркевича, в которой он интерпретирует рельефы Дмитриевского собора как изображение эпизодов подвигов Геракла: Даркевич В.П. Подвиги Геракла в декорации Дмитриевского собора во Владимире // // Советская археология (СА), 1962, 4. С. 90-105. Наряду с этим, и в свое время, и сейчас вызывает огромное сомнение идея Г.К. Вагнера, пытавшегося связать кентавров Георгиевского собора с образом Китовраса. См. Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. М., 1969
[2] Сарабьянов В.Д. Образ монашества в древнерусском искусстве XI – середины XII в. // ДРИ. Идея и образ. Опыты изучения византийского и древнерусского искусства. Материалы Международной научной конференции 1-2 ноября 2005 года. М., 2009. С. 161-194. Обратим внимание, что здесь исследователь называет сцену с кентавром «Искушением св. Антония», в дальнейших его публикациях этой ошибки уже нет.
[3] Более полный обзор и возможные интерпретации редких сюжетов в полоцкой церкви можно получить в работе Сарабьянов В. Д. Мир книжности во фресках Спасской церкви Евфросиньева монастыря и иконографический замысел преп. Евфросинии Полоцкой // Искусство христианского мира. Сб. статей. Вып. 12. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. — С. 135–163.
[4] Шалина И.А. Богоматерь Эфесская - Полоцкая - Корсунская - Торопецкая: Ист. имена и архетип чудотворной иконы // Чудотворная икона в Византии и Др. Руси. М., 1996. С. 200-251.
[5] Хороший обзор древнерусских изображений кентавра в различных видах искусства, и не только на домонгольский период, дан в статье - Чернецов А.В. Древнерусские изображения кентавра // Советская археология (СА), 1975, 2. С. 100-120.
[6] Обратим здесь внимание на старую работу В.П. Даркевича, в которой он интерпретирует рельефы Дмитриевского собора как изображение эпизодов подвигов Геракла: Даркевич В.П. Подвиги Геракла в декорации Дмитриевского собора во Владимире // // Советская археология (СА), 1962, 4. С. 90-105. Наряду с этим, и в свое время, и сейчас вызывает огромное сомнение идея Г.К. Вагнера, пытавшегося связать кентавров Георгиевского собора с образом Китовраса. См. Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. М., 1969
янваРЬ2018
ВЕРБЛЮД ИВАНА III: О ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОМ ДАРЕ ПСКОВСКОМУ ПОСОЛЬСТВУ
В 1463/1464 Г.
В 1463/1464 Г.
Тарасов А.Е.
к.и.н., старший преподаватель исторического ф-та
МГУ имени М.В. Ломоносова
г. Москва
к.и.н., старший преподаватель исторического ф-та
МГУ имени М.В. Ломоносова
г. Москва
В декабре 1463 г. и затем январе 1464 г. псковское вече обратилось к великому князю Московскому Ивану III с просьбой вывести Псковскую землю из подчинения архиепископа Новгородского и образовать здесь епархию во главе с собственным владыкой [16, с. 297]. Считается, что псковичи и ранее неоднократно предпринимали попытки добиться церковной независимости от Новгорода, но не имели успеха вплоть до конца 1437 – начала 1438 г., когда митрополит Исидор «постави им анхимандрита Геласья и дасть ему суд владычен и вси пошлины» [17, с. 419; 8, с. 359]. Это решение означало переподчинение псковской церковной организации непосредственно митрополиту с назначением митрополичьего наместника, а не создание отдельной епархии, однако возник прецедент. И по прошествии относительно небольшого времени после восстановления канонической власти новгородского архиерея над Псковом (вероятно, в 1447 г.) [16, c. 290] псковичи заново поднимают вопрос о своем особом церковном статусе.
Попытка веча закончилась неудачей, великий князь Московский ответил отказом. Обстоятельства обращения псковичей к Ивану III отражены в псковском летописании. При этом летописи содержат интересное свидетельство, завершающее повествование об этой миссии – Иван III подарил послу верблюда. Согласно Погодинскому списку Псковской 1-й летописи, этим послом был Исаак Шестник [21, c. 71], в соответствии с текстом Псковской 2-й летописи – посадник Максим Ларионович [22, c. 53].
В.Н. Бернадский так прокомментировал дар великого князя: «Получив вместо согласия на поставление владыки верблюда, псковичи вынуждены были сами искать путей соглашения с Новгородом» [5, с. 268]. Н.С. Борисов высказался в том же духе: «Неизвестно, как распорядились псковичи этим диковинным животным, само имя которого на Руси произносили не иначе как "вельблуд", то есть "очень ("вельми") блудливый". Однако этот подарок немало позабавил насмешливых новгородцев: псковичи просили себе у великого князя отдельного владыку, а вместо епископа получили верблюда…» [9, c. 211]. По мнению Ю.Г. Алексеева, дарение Иваном III верблюда было «несколько неожиданно» [1, c. 107].
Верблюды действительно попадали на Русь в эпоху Средневековья. Кости этих животных обнаружены археологами в Киеве, Вышгороде, Суздале, Москве, городищах Боршевское и Титчиха, ряде других мест; древнейшее изображение верблюда в землях восточных славян, вероятно, сохранилось на фреске киевского Софийского собора, относящейся к XI веку [14, c. 178]. Образ экзотического, но известного русским людям верблюда стал основой для описания других животных – невиданных. Так, от смешения верблюда и леопарда появились характеристики вельбудопардуса (жирафа), а вельбуд-птицей был назван страус [10]. Однако же письменные упоминания о верблюдах в русских источниках не так часты. Их можно разделить на два типа: «исторические» (совсем редкие) и «книжные» (относительно распространенные).
Попытка веча закончилась неудачей, великий князь Московский ответил отказом. Обстоятельства обращения псковичей к Ивану III отражены в псковском летописании. При этом летописи содержат интересное свидетельство, завершающее повествование об этой миссии – Иван III подарил послу верблюда. Согласно Погодинскому списку Псковской 1-й летописи, этим послом был Исаак Шестник [21, c. 71], в соответствии с текстом Псковской 2-й летописи – посадник Максим Ларионович [22, c. 53].
В.Н. Бернадский так прокомментировал дар великого князя: «Получив вместо согласия на поставление владыки верблюда, псковичи вынуждены были сами искать путей соглашения с Новгородом» [5, с. 268]. Н.С. Борисов высказался в том же духе: «Неизвестно, как распорядились псковичи этим диковинным животным, само имя которого на Руси произносили не иначе как "вельблуд", то есть "очень ("вельми") блудливый". Однако этот подарок немало позабавил насмешливых новгородцев: псковичи просили себе у великого князя отдельного владыку, а вместо епископа получили верблюда…» [9, c. 211]. По мнению Ю.Г. Алексеева, дарение Иваном III верблюда было «несколько неожиданно» [1, c. 107].
Верблюды действительно попадали на Русь в эпоху Средневековья. Кости этих животных обнаружены археологами в Киеве, Вышгороде, Суздале, Москве, городищах Боршевское и Титчиха, ряде других мест; древнейшее изображение верблюда в землях восточных славян, вероятно, сохранилось на фреске киевского Софийского собора, относящейся к XI веку [14, c. 178]. Образ экзотического, но известного русским людям верблюда стал основой для описания других животных – невиданных. Так, от смешения верблюда и леопарда появились характеристики вельбудопардуса (жирафа), а вельбуд-птицей был назван страус [10]. Однако же письменные упоминания о верблюдах в русских источниках не так часты. Их можно разделить на два типа: «исторические» (совсем редкие) и «книжные» (относительно распространенные).
К первому типу отношу примеры реальных случаев упоминания верблюдов. Наиболее ранним «историческим» является свидетельство «Повести временных лет», содержащее под 6603 г. известие о походе князей Святополка и Владимира на половцев, в результате которого они «полониша скоты и кони и вельблуды и челядь и преведоста в землю свою» [18, cтб. 228; 19, cтб. 219]. Похожее известие читается также под 6611 г. в связи с очередной русской победой, одержанной над половцами: «Взяше бо тогда скоты и овце и коне и вельблуды и веже с добытком и с челядью» [18, cтб. 279; 19, cтб. 255]. Подобный перечень трофеев, включавший верблюдов, был традиционным для древнерусской литературы при описании сражений с кочевниками и, не исключено, восходил к Библии [12, c. 227-228]. В качестве одного из ранних «исторических» отмечу и свидетельство Новгородской 1-й летописи о дарах, направленных половцами русским князьям перед битвой на Калке ( 6732 г.): «И дары принесе многы: кони и вельблуды и буволы и девкы» [17, c. 62, 265].
Совокупность «книжных» упоминаний верблюдов в основном связана с литературой природоведческого и назидательного характера (притчами, баснями и т.д.), а также текстами Священного Писания и Предания (зачастую также в форме нравоучений, например, в сборнике изречений «Пчела» [11, c. 29]). Известно, что животные воспринимались в Средневековье не только как существа фауны с их биологическими свойствами, но и с точки зрения заключенного в них, по мысли современников, сакрального смысла, указывающего на незримую связь между телесным и духовным мирами [3, c. 162]. «Истолкованию подвергался не только образ в целом или отдельные его стороны, но также материальная оболочка образа – его имя; символика мыслилась изначально заложенной как в природе животных, так и в их именах» [2, c. 9]. Символическое восприятие животных было сложным и многогранным, оно основывалось не на очевидном, художественно наблюдаемом сходстве, а на трудно объяснимых, традиционно закрепленных смысловых тождествах [15, с. 99-105]. Следует отметить, что в XV в. корпус произведений, содержащих символические характеристики верблюдов, расширяется. В это время на Русь проникают переводные книга басен «Стефанит и Ихнилат» [24], собрание житейских наставлений по различным вопросам «Тайная Тайных» [6].
О.В. Белова выделила несколько символических свойств верблюдов, которые нашли распространение в славянской книжности: двойственность человеческой натуры, обозначение злопамятных людей, обозначение гневливого / некрасивого человека, обозначение осмотрительности [2, c. 69-70]. Могло ли какое-то из данных свойств верблюда определить символический смысл подарка Ивана III?
Обратимся к «Летописи Авраамки». В настоящее время доказано, что кодекс, содержащий «Летопись Авраамки», является конволютом, который состоит из древнего основания новгородского происхождения, датируемого концом 60-х – началом 70-х гг. XV в., и заключительной части, написанной смоленским книжником Авраамкой по благословению епископа Иосифа в 1495 г. Особый интерес в летописи представляют известия, часто уникальные, 1450 – 1460-х гг., которые существенно дополняют картину новгородских внутренних и внешних церковно-политических отношений этого периода. Не вызывает сомнений, что автор известий «Летописи Авраамки» за 1447-1469 гг., был официальным летописцем архиерейской кафедры Новгорода [13, c. IV-VI; 7, с. 229-233]. Под 6971 г. этот летописец записал о попытке псковичей выйти из подчинения новгородскому владке: «[Псковичи] с новгородци жиша не братолюбно, и хлебъ отъяша домовный святей Софеи и отца своего архиепископа владыкы Ионы, а свой злый наровъ обнажиша, ослепи бо злоба ихъ» [20, c. 213]. Данное решение псковичей предварило отправку ими посольства в Москву.
К сожалению, грамоты, посланные псковичами Ивану III с просьбой о владыке, и ответные грамоты великого князя не сохранились. Аргументация и риторика адресатов в подробностях не известны. Однако из Псковской 3-й летописи (похоже, ее автор использовал в своем тексте выдержки из грамоты Ивана III) мы узнаем, что Иван III о просьбе псковичей обещал «гораздо мышлити» с митрополитом, а также посоветоваться с иными архиереями Русской Церкви, включая архиепископа Новгородского: «…Язъ, князь великой, хощю о том слати своихъ пословъ в Великой Новъгород…» [22, c. 158-159].
Совокупность «книжных» упоминаний верблюдов в основном связана с литературой природоведческого и назидательного характера (притчами, баснями и т.д.), а также текстами Священного Писания и Предания (зачастую также в форме нравоучений, например, в сборнике изречений «Пчела» [11, c. 29]). Известно, что животные воспринимались в Средневековье не только как существа фауны с их биологическими свойствами, но и с точки зрения заключенного в них, по мысли современников, сакрального смысла, указывающего на незримую связь между телесным и духовным мирами [3, c. 162]. «Истолкованию подвергался не только образ в целом или отдельные его стороны, но также материальная оболочка образа – его имя; символика мыслилась изначально заложенной как в природе животных, так и в их именах» [2, c. 9]. Символическое восприятие животных было сложным и многогранным, оно основывалось не на очевидном, художественно наблюдаемом сходстве, а на трудно объяснимых, традиционно закрепленных смысловых тождествах [15, с. 99-105]. Следует отметить, что в XV в. корпус произведений, содержащих символические характеристики верблюдов, расширяется. В это время на Русь проникают переводные книга басен «Стефанит и Ихнилат» [24], собрание житейских наставлений по различным вопросам «Тайная Тайных» [6].
О.В. Белова выделила несколько символических свойств верблюдов, которые нашли распространение в славянской книжности: двойственность человеческой натуры, обозначение злопамятных людей, обозначение гневливого / некрасивого человека, обозначение осмотрительности [2, c. 69-70]. Могло ли какое-то из данных свойств верблюда определить символический смысл подарка Ивана III?
Обратимся к «Летописи Авраамки». В настоящее время доказано, что кодекс, содержащий «Летопись Авраамки», является конволютом, который состоит из древнего основания новгородского происхождения, датируемого концом 60-х – началом 70-х гг. XV в., и заключительной части, написанной смоленским книжником Авраамкой по благословению епископа Иосифа в 1495 г. Особый интерес в летописи представляют известия, часто уникальные, 1450 – 1460-х гг., которые существенно дополняют картину новгородских внутренних и внешних церковно-политических отношений этого периода. Не вызывает сомнений, что автор известий «Летописи Авраамки» за 1447-1469 гг., был официальным летописцем архиерейской кафедры Новгорода [13, c. IV-VI; 7, с. 229-233]. Под 6971 г. этот летописец записал о попытке псковичей выйти из подчинения новгородскому владке: «[Псковичи] с новгородци жиша не братолюбно, и хлебъ отъяша домовный святей Софеи и отца своего архиепископа владыкы Ионы, а свой злый наровъ обнажиша, ослепи бо злоба ихъ» [20, c. 213]. Данное решение псковичей предварило отправку ими посольства в Москву.
К сожалению, грамоты, посланные псковичами Ивану III с просьбой о владыке, и ответные грамоты великого князя не сохранились. Аргументация и риторика адресатов в подробностях не известны. Однако из Псковской 3-й летописи (похоже, ее автор использовал в своем тексте выдержки из грамоты Ивана III) мы узнаем, что Иван III о просьбе псковичей обещал «гораздо мышлити» с митрополитом, а также посоветоваться с иными архиереями Русской Церкви, включая архиепископа Новгородского: «…Язъ, князь великой, хощю о том слати своихъ пословъ в Великой Новъгород…» [22, c. 158-159].
Нет оснований считать, что обещание великого князя было «пустышкой». Какие-то переговоры с владыками, пусть и формального характера, имели место, причем в первую очередь необходимо было обратиться к Дому святой Софии. Согласно каноническому праву, светская власть не может разделять епархию, что прямо запрещено 12-м правилом Халкидонского собора. А для принятия решения о разделении епископии, в соответствии с 56-м и 97/98-м [26] правилами Карфагенского собора, необходимо согласие того архиерея, чью епархию хотят разделить. Кроме того, норма 32-го канонического ответа митрополита всея Руси Иоанна II (1080-1089 гг.), основанная на 97/98-м правиле Карфагенского собора, одним из условий открытия новой архиерейской кафедры указывала согласие «первого столника русского», т.е. митрополита, и архиерейского собора «страны всея тоя» [23, cтб. 19]. Таким образом, даже если сам Иван III и не думал об удовлетворении просьбы псковичей, церковно-политическая дипломатия диктовала необходимость «игры» в соборность при обязательном учете мнения архиепископа Ионы, которое было очевидно не в пользу псковского веча.
Скорее всего, от Новгородской архиерейской кафедры был получен очень жесткий ответ, в котором архиепископ, как и его летописец, «прошелся» по злонравию псковичей, покусившихся на вековые устои и прерогативы владык Новгорода. Не эта ли реакции могла стать поводом для своеобразного подарка, который ясно давал современникам понять, что великий князь Московский даже в непростых отношениях с Новгородом стоит за «старину» и закон [27] , выступая против «злых» устремлений псковичей?
Скорее всего, от Новгородской архиерейской кафедры был получен очень жесткий ответ, в котором архиепископ, как и его летописец, «прошелся» по злонравию псковичей, покусившихся на вековые устои и прерогативы владык Новгорода. Не эта ли реакции могла стать поводом для своеобразного подарка, который ясно давал современникам понять, что великий князь Московский даже в непростых отношениях с Новгородом стоит за «старину» и закон [27] , выступая против «злых» устремлений псковичей?
Верблюды. Миниатюра «Синодика», XVIIIв. РГБ. Ф. 299 № 341. Собр. Н.С. Тихонравова.
Верблюд. Миниатюра «Слова о рассечении человеческого естества», XVIII в. РНБ ОЛДП О.133, л. 167 об.
Слева: Говорящий верблюд у могил святых Косьмы и Даминана. Миниатюра «Жития Алексия, митрополита Киевского». РНБ Погод. 676, л. 61 об.
Сверху: Киевская Псалтирь XIVв, (РНБ ОЛДПF.6, л.53 об.)
Снизу: Телчеслон и велбудопардус – жираф. Миниатюра «Христианской топографии», XVI в. РНБF. IV683, л. 184
Сверху: Киевская Псалтирь XIVв, (РНБ ОЛДПF.6, л.53 об.)
Снизу: Телчеслон и велбудопардус – жираф. Миниатюра «Христианской топографии», XVI в. РНБF. IV683, л. 184
[1] Алексеев Ю.Г. Под знаменами Москвы: Борьба за единство Руси. М., 1992.
[2] Белова О.В. Славянский бестиарий: Словарь названий и символики. М., 2001.
[3] Белова О.В., Петрухин В.Я. Фольклор и книжность: Миф и исторические реалии. М., 2008.
[4] Бенешевич В.Н. Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований. СПб., 1906. Том первый.
[5] Бернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в XV в. М.; Л., 1961.
[6] БЛДР. СПб., 2000. Т. 9.
[7] Бобров А.Г. Новгородские летописи XV века. СПб., 2001.
[8] Бобров А.Г. Новгородско-псковские отношения и Флорентийская уния // ТОДРЛ. СПб., 1997. Т. L.
[9] Борисов Н.С. Иван III. М., 2000.
[10] Буцких Н.В. «Велбуд образом нелеп»: экзотические звери в древнерусской литературе и миниатюре [электронный ресурс]. 2016. URL: http://expositions.nlr.ru/literature/drevrus/artic... (дата обращения 31.05.2017).
[11] Григорьев А.В. Русская библейская фразеология в контексте культуры. М., 2006.
[12] Дёмин А.С. О художественности древнерусской литературы. М., 1998.
[13] Клосс Б.М. Предисловие к изданию 2000 года // ПСРЛ. М., 2000. Т. 16.
[14] Курбатов А.В. Кожевеное сырье, техническое обеспечение его выделки и сортамент кож средневековой Руси // Stratum plus. 2010. № 5.
[15] Лихачева О.П. Некоторые замечания об образах животных в древнерусской литературе // Культурное наследие Древней Руси (Истоки. Становление. Традиции). М., 1976.
[16] Мусин А.Е. Церковь и горожане средневекового Пскова. Историко-археологическое исследование. СПб., 2010.
[17] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.
[18] ПСРЛ. Л., 1926. Т. 1. Изд. 2-е.
[19] ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 2. Изд. 2-е.
[20] ПСРЛ. М., 2000. Т. 16.
[21] Псковские летописи. М.; Л., 1941. Вып. 1.
[22] Псковские летописи. М., 1955. Вып. 2.
[23] РИБ. СПб., 1908. Т. 6. Изд. 2-е.
[24] Стефанит и Ихнилат. Средневековая книга басен по русским рукописям XV–XVII веков. Л., 1969.
[25] Тарасов А.Е. Церковь и подчинение Великого Новгорода // Новгородский исторический сборник. М.; СПб, 2011. Т. 12.
[26] Данное правило имело номер 98 в Древнеславянской редакции Кормчей книги, которую использовал митрополит всея Руси Иоанн II (см. [4, c. 406]). А псковичи, обращаясь к Ивану III, скорее всего, имели на руках одну из русских редакций Кормчих, где правило фигурирует под номером 97. Выражаю признательность А.А. Манохину, обратившему мое внимание на это.
[27] О московско-новгородских отношениях в 1460-е гг. и тонкой политике Ивана III, осторожно, но настойчиво, претворявшего в жизнь идею подчинения Новгорода власти великого князя Московского, см.: [25, c. 73-93].
[2] Белова О.В. Славянский бестиарий: Словарь названий и символики. М., 2001.
[3] Белова О.В., Петрухин В.Я. Фольклор и книжность: Миф и исторические реалии. М., 2008.
[4] Бенешевич В.Н. Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований. СПб., 1906. Том первый.
[5] Бернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в XV в. М.; Л., 1961.
[6] БЛДР. СПб., 2000. Т. 9.
[7] Бобров А.Г. Новгородские летописи XV века. СПб., 2001.
[8] Бобров А.Г. Новгородско-псковские отношения и Флорентийская уния // ТОДРЛ. СПб., 1997. Т. L.
[9] Борисов Н.С. Иван III. М., 2000.
[10] Буцких Н.В. «Велбуд образом нелеп»: экзотические звери в древнерусской литературе и миниатюре [электронный ресурс]. 2016. URL: http://expositions.nlr.ru/literature/drevrus/artic... (дата обращения 31.05.2017).
[11] Григорьев А.В. Русская библейская фразеология в контексте культуры. М., 2006.
[12] Дёмин А.С. О художественности древнерусской литературы. М., 1998.
[13] Клосс Б.М. Предисловие к изданию 2000 года // ПСРЛ. М., 2000. Т. 16.
[14] Курбатов А.В. Кожевеное сырье, техническое обеспечение его выделки и сортамент кож средневековой Руси // Stratum plus. 2010. № 5.
[15] Лихачева О.П. Некоторые замечания об образах животных в древнерусской литературе // Культурное наследие Древней Руси (Истоки. Становление. Традиции). М., 1976.
[16] Мусин А.Е. Церковь и горожане средневекового Пскова. Историко-археологическое исследование. СПб., 2010.
[17] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.
[18] ПСРЛ. Л., 1926. Т. 1. Изд. 2-е.
[19] ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 2. Изд. 2-е.
[20] ПСРЛ. М., 2000. Т. 16.
[21] Псковские летописи. М.; Л., 1941. Вып. 1.
[22] Псковские летописи. М., 1955. Вып. 2.
[23] РИБ. СПб., 1908. Т. 6. Изд. 2-е.
[24] Стефанит и Ихнилат. Средневековая книга басен по русским рукописям XV–XVII веков. Л., 1969.
[25] Тарасов А.Е. Церковь и подчинение Великого Новгорода // Новгородский исторический сборник. М.; СПб, 2011. Т. 12.
[26] Данное правило имело номер 98 в Древнеславянской редакции Кормчей книги, которую использовал митрополит всея Руси Иоанн II (см. [4, c. 406]). А псковичи, обращаясь к Ивану III, скорее всего, имели на руках одну из русских редакций Кормчих, где правило фигурирует под номером 97. Выражаю признательность А.А. Манохину, обратившему мое внимание на это.
[27] О московско-новгородских отношениях в 1460-е гг. и тонкой политике Ивана III, осторожно, но настойчиво, претворявшего в жизнь идею подчинения Новгорода власти великого князя Московского, см.: [25, c. 73-93].
янваРЬ2018
ПРИЧТИ О ЖИВОТНЫХ В ЖИТИИ ВАРЛААМА И ИОАСАФА
Мантай Р.В.
Основатель проекта
"Рукописи. Манускрипты. Книжные миниатюры."
г. Самара.
Основатель проекта
"Рукописи. Манускрипты. Книжные миниатюры."
г. Самара.
Повесть о Варлааме и Иоасафе является настоящим кладезем притч. Например, полная арабская версия содержит их около сорока: от буддийских до евангельских. Среди них десять притч о животных и птицах: Притча о человеке, искавшем спасенья в колодце (о единороге или о сладости временной жизни), Притча о собаках, падали и прохожем, Притча о птице Кадим, прообразе пророков, Притча о птичке и садовнике (о соловье и птицелове), Притча о домашней газели, Притча о приучении хищных зверей для охоты, Притча о птенцах птицы Анки, Притча о птицах приносящих счастье, Притча о двух царских сыновьях, воспитанных обезьянами, Притча о двух павлинах и вороне.
К сожалению, иллюстрированных полных списков арабской версии до нас не дошло, а в последующих грузинских и греческих редакциях количество притч значительно сократилось, уступая место библейским повествованиям и догматическим рассуждениям. Однако три притчи (о единороге, о домашней газели, о соловье и птицелове) сохранились в дальнейших версиях Повести и их переводах на европейские языки. А соответственно отразились и в иллюминированных списках. Самой известной из них является Притча о сладости временной жизни (Притча о единороге). Данный сюжет выходит далеко за рамки Повести о Варлааме и Иоасафе, и встречается в разных книгах духовного содержания: в Псалтирях, Синодиках и даже в одном из Евангелий (Лавришевское Евангелие XIV века).
К сожалению, иллюстрированных полных списков арабской версии до нас не дошло, а в последующих грузинских и греческих редакциях количество притч значительно сократилось, уступая место библейским повествованиям и догматическим рассуждениям. Однако три притчи (о единороге, о домашней газели, о соловье и птицелове) сохранились в дальнейших версиях Повести и их переводах на европейские языки. А соответственно отразились и в иллюминированных списках. Самой известной из них является Притча о сладости временной жизни (Притча о единороге). Данный сюжет выходит далеко за рамки Повести о Варлааме и Иоасафе, и встречается в разных книгах духовного содержания: в Псалтирях, Синодиках и даже в одном из Евангелий (Лавришевское Евангелие XIV века).
В этой притче частенько менялись животные, преследовавшие человека. В арабской и грузинской редакциях это слон. В греческих редакциях по одной версии верблюд, по другой единорог. В русских синодиках встречается вариант, при котором человек убегает от двух животных сразу: от верблюда и льва. Но какой бы зверь ни гнался за человеком, в этой притче он всегда символизирует смерть. Еще довольно распространен вариант, на котором зверь, преследующий человека, вообще не изображается, и композиция сконцентрирована на провалившемся в яму человеке, держащемся за корни растения.
В данной статье мы предпримем попытку собрать в одном месте богатую коллекцию миниатюр к трём выше упомянутым притчам и постараемся её пополнять. Миниатюры к притче о сладости временной жизни для удобства мы разделим три части: миниатюры из списков Повести о Варлааме и Иоасафе, миниатюры из Псалтирей, и миниатюры из Синодиков, в которые мы включили пока неидетифицированные изображения.
В данной статье мы предпримем попытку собрать в одном месте богатую коллекцию миниатюр к трём выше упомянутым притчам и постараемся её пополнять. Миниатюры к притче о сладости временной жизни для удобства мы разделим три части: миниатюры из списков Повести о Варлааме и Иоасафе, миниатюры из Псалтирей, и миниатюры из Синодиков, в которые мы включили пока неидетифицированные изображения.
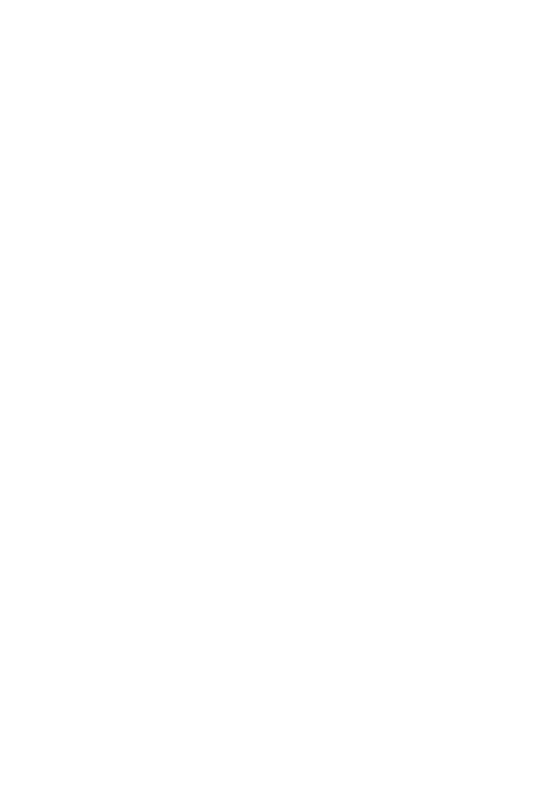
Первым по времени иллюстрированным списком Повести о Варлааме и Иоасафе, в котором есть миниатюра к притче о сладости временной жизни, является сирийская рукописи No. 147 (6) XIII века, находящаяся в Баламандском Успенском монастыре (Сирия). Далее идет греческая рукопись XIV века, хранящаяся в Национальной Библиотеке Франции (Grec 1128, folio 68r). Следующим лицевым списком Повести о Варлааме и Иоасафе, является Самарская рукопись 1628-1629 гг. ОЛДП Q. 17, хранящаяся в Российской Национальной Библиотеке. Далее следует миниатюра из арабской рукописи 1707 года НИОР РГБ ф. 201 №44, хранящаяся в Российской Государственной Библиотеке. И еще две миниатюры из копто-арабских рукописей XVIII века, хранящихся в Национальной Библиотеке Франции: Arabe 273, folio 42r (1752-1763 гг.) и Arabe 274, folio 55v (1778 г.)
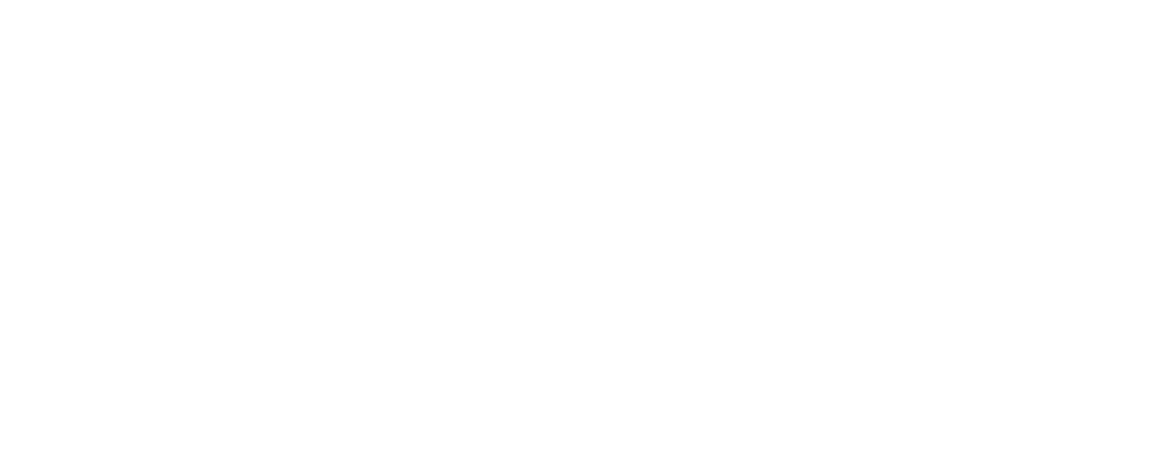
В иллюстрированных Псалтирях миниатюры с изображением сюжета притчи прослеживаются с XI века. Первыми идут две очень близкие друг другу по времени и стилю византийские рукописи: Псалтирь Барберини Barb.gr.372 из Библиотеки Ватикана и Феодоровская Псалтирь Add. 19352 из Британской Библиотеки. В XIV веке миниатюра с притчей о сладости временной жизни появляется в сербской Мюнхенской Псалтири Cod.slav. 4. Миниатюра плохо сохранилась, но вполне различим человек на дереве, поднявший голову вверх для вкушения мёда, а слева легко угадывается единорог. Далее наша притча обнаруживается на Руси в Киевской Псалтири 1397 года (РНБ инв. ОЛДП. F. 6). В XV веке притча отображена в Угличской Псалтири (1485 г.) РНБ инв. F.I.5. И последний раз в Псалтири мы видим нашу притчу в 1591 году, в одной из Годуновских Псалтирей (КН-136) из Музея Московского Кремля.
Весьма интересен вариант притчи, в котором за человеком гонятся одновременно два животных. Две таких миниатюры мы находим в русских Синодиках XVII века: сразу две миниатюры в Синодике из Российской Государственной Библиотеки ф. 37 № 9 и одна миниатюра в рукописи № 815 из Национальной Библиотеки свв. Кирилла и Мефодия (Болгария). На миниатюрах изображены лев и верблюд, однако есть вариант, при котором изображаются лев и единорог. Такой пример мы видим на черно-белом скане миниатюры, которая пока нами не идентифицирована; известно только, что в издании советских времен, откуда она была отсканирована, она была подписана с ошибкой и код был совсем другой рукописи. И последняя миниатюра в данном разделе из разряда не идентифицированных, была использована в оформлении обложки книги А. И. Алексеева "Духовная культура средневековой Руси". На ней мы видим единорога (впрочем, это может быть фрагмент и мы видим не всё).
Миниатюры к притче о домашней газели и притче о соловье и птицелове мы рассмотрим только на примерах иллюстрированных рукописей Повести о Варлааме и Иоасафе. Начнем с рукописи XIII века Iviron 463, хранящейся на Афоне в монастыре Иверон, которая является первым полным иллюстрированным списком Повести, дошедшим до нашего времени. К сожалению, в этом богато иллюстрированном списке (80 миниатюр), из интересующих нас сюжетов, есть только миниатюра с притчей о соловье и птицелове. Следующей по времени является рукопись Grec 1128 (около 200 миниатюр), в которой есть миниатюры ко всем, рассматриваемым нами притчам, причем к притче о соловье и птицелове даже две подряд. По одной миниатюре ко всем притчам имеется в Самарской рукописи 1628-1629 гг. ОЛДП Q. 17 и в копто-арабской рукописи XVIII века Arabe 274. В арабской рукописи 1707 года НИОР РГБ ф. 201 №44 размещена полностраничная миниатюра к притче о соловье и птицелове. А в рукописи Arabe 273, помимо миниатюры к притче о домашней газели, мы снова видим целых две миниатюры к притче о соловье и птицелове, что уже встречалось в греческой рукописи XIV века.
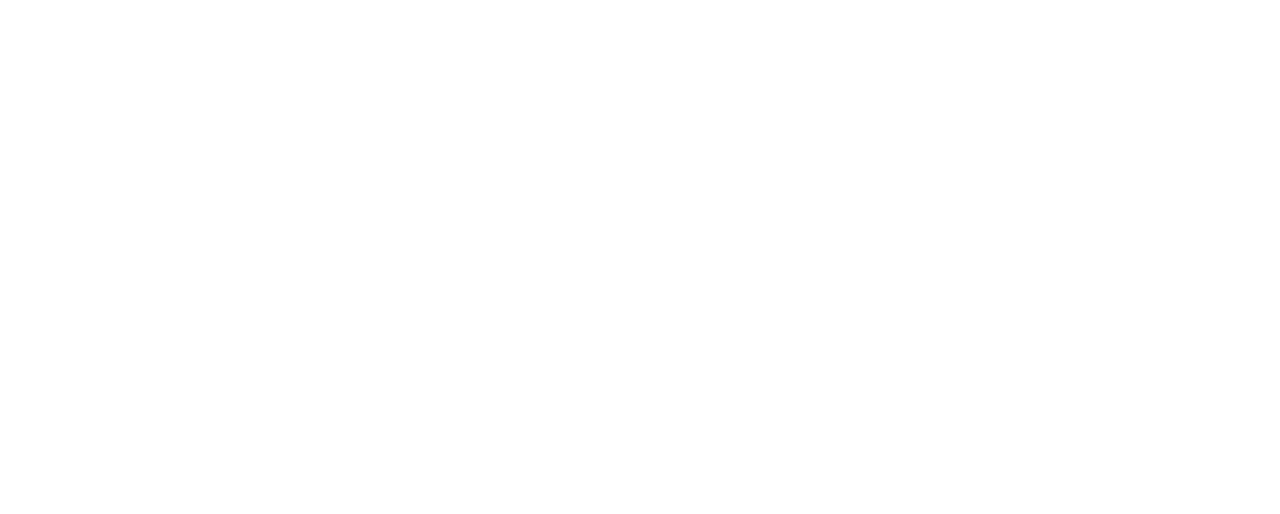
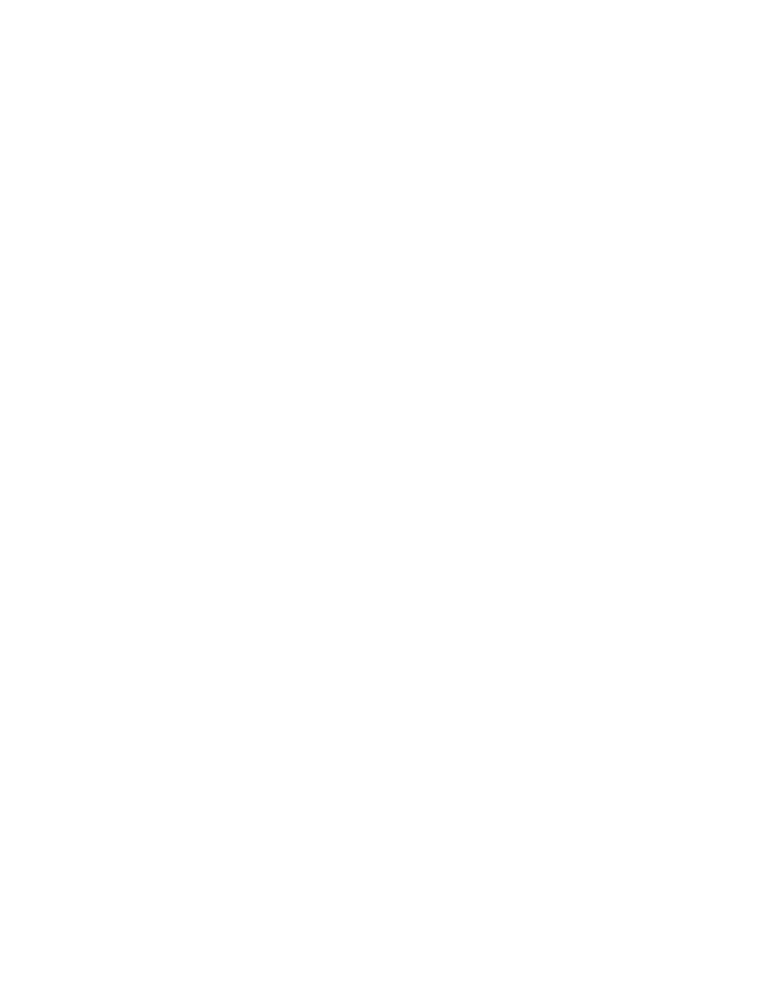 | 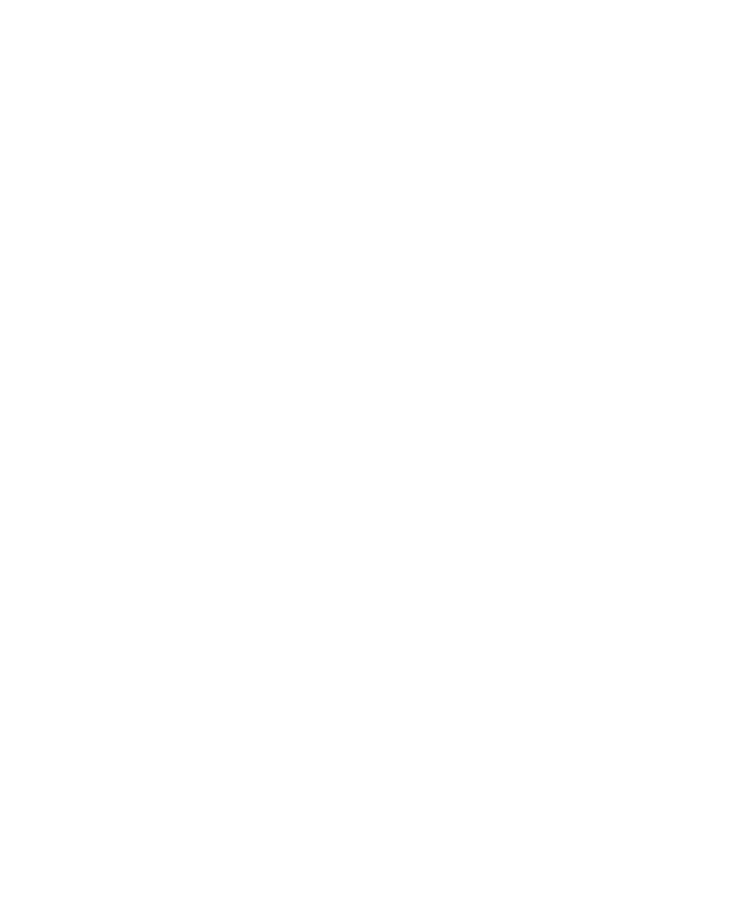 | 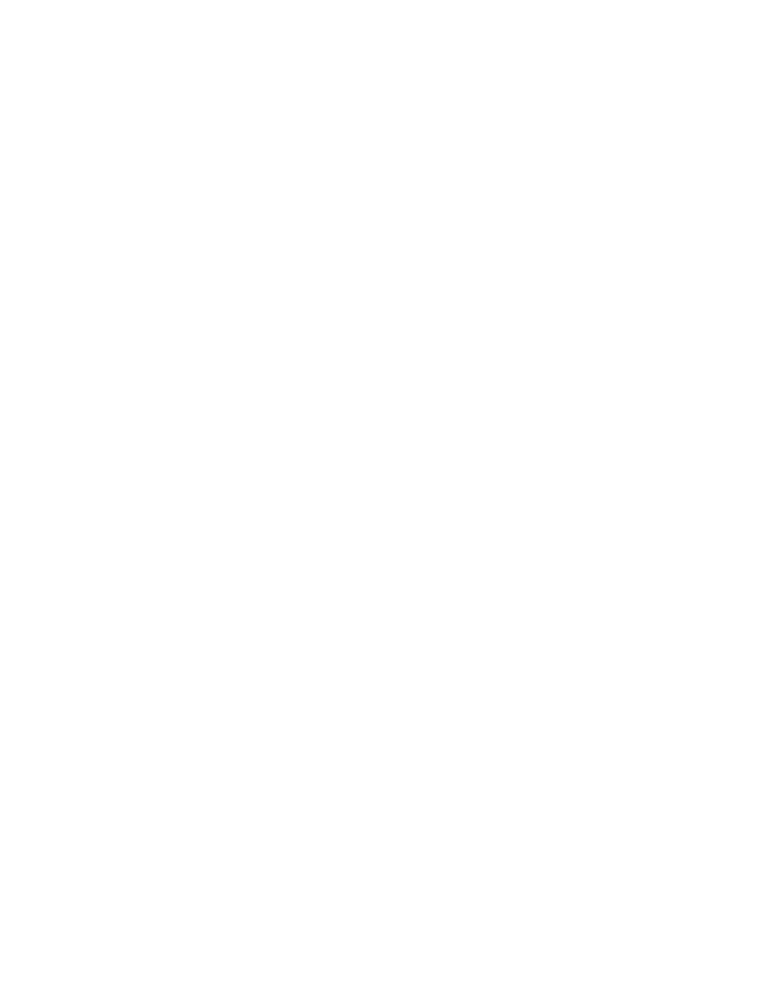 |
 | 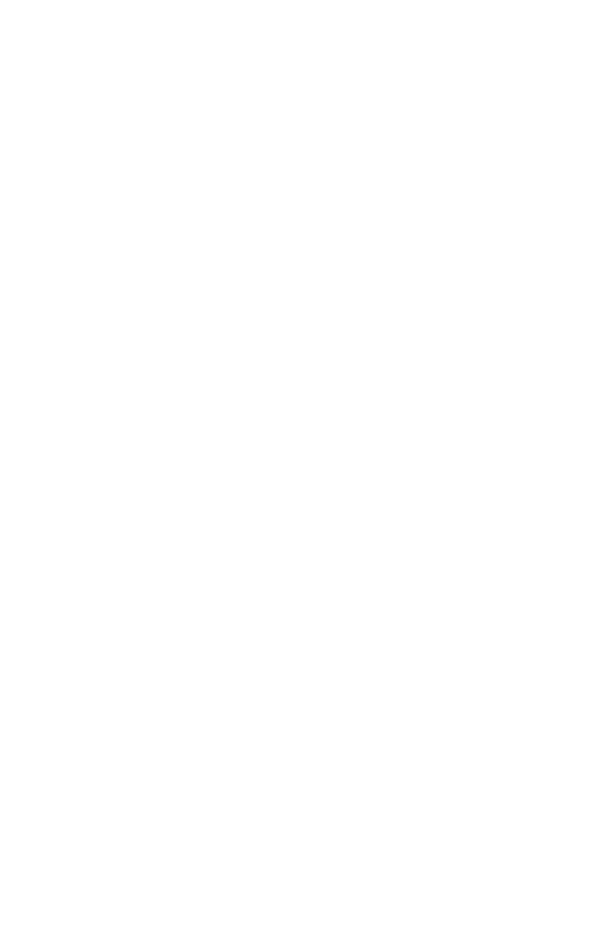 | 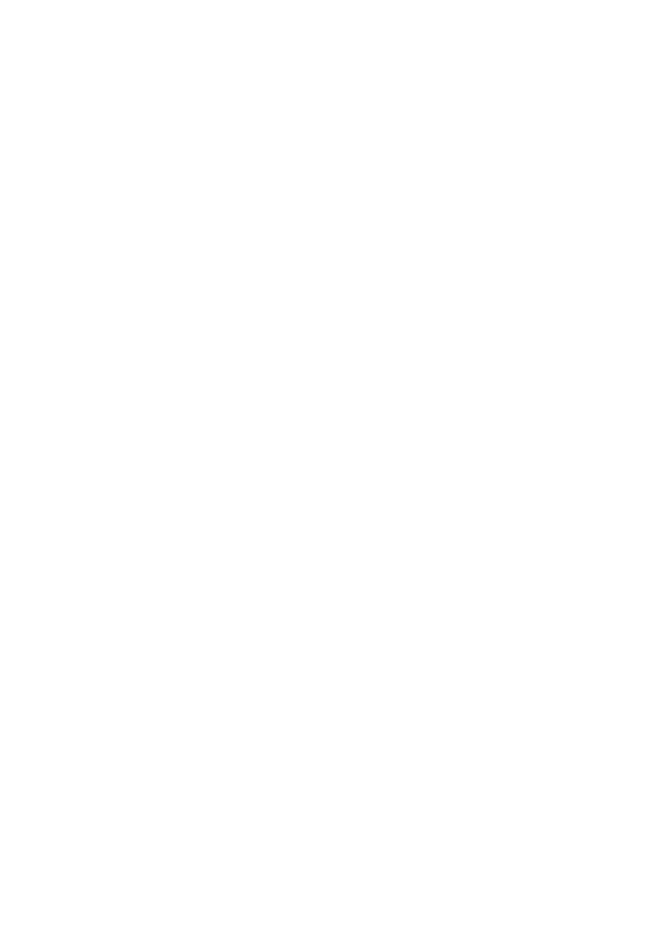 |
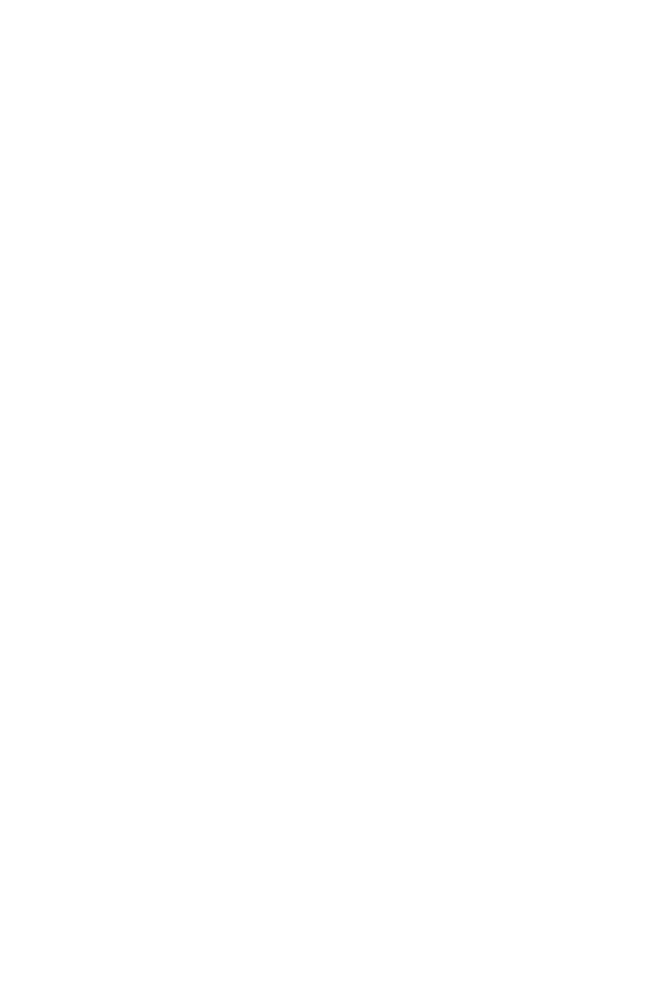 |  | 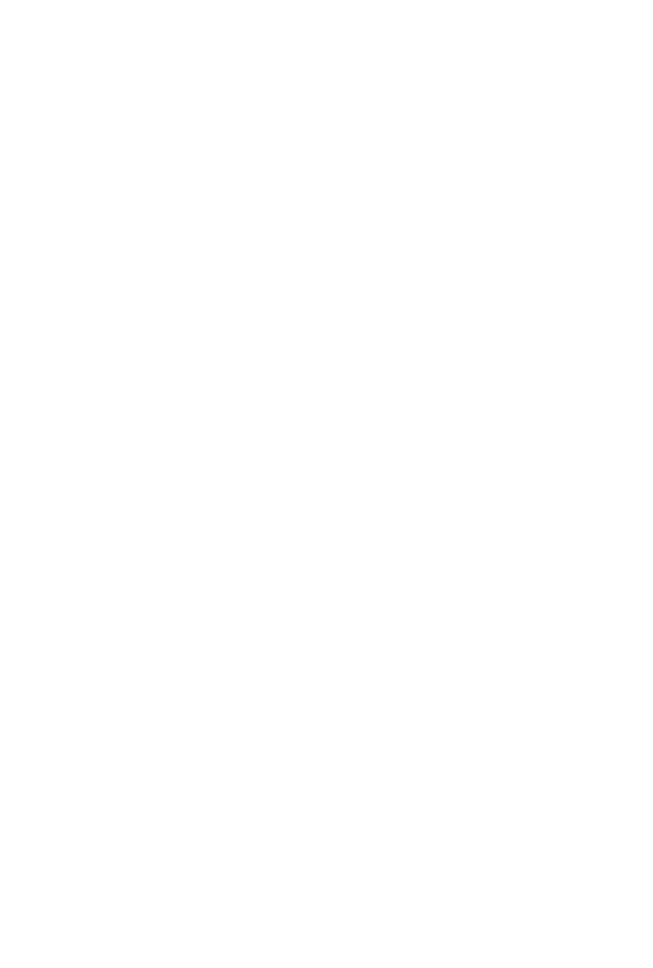 |
zelomi.ru@gmail.com
vk.com/zelomiru
8 964 341 57 86
vk.com/zelomiru
8 964 341 57 86
